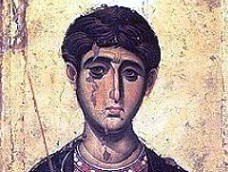Курганы: княжеские и племенные культы в древнерусском язычестве
Курганы: княжеские и племенные культы в древнерусском язычестве
Владимир Петрухин
Представляется актуальным хотя бы в предварительной форме охарактеризовать язычество Руси не с точки зрения ставших традиционными «отрывочных» данных летописи («пантеон Владимира» и др.) и археологии (Збручский идол или упомянутое «святилище» в Перыни), а учитывая материал массовых культовых памятников — погребений.
Важную роль в археологических, а в последнее время и в культурологических исследованиях они приобретают не только в силу их «массовости», но, в первую очередь, потому, что погребальный памятник воплощает целенаправленное и завершенное действие древнего коллектива. Кроме того, погребальные памятники (в отличие от остатков поселений и т. п.) связаны не только с выполнением некоторых функций внутри окружающего их коллектива и специально ориентированы на передачу «информации» об этом коллективе «вовне» — от предков к потомкам, то есть являются памятниками в собственном смысле слова.
Самыми массовыми памятниками древнерусской культуры IX—XI вв. были курганы: в крупнейшем древнерусском некрополе в Гнездове под Смоленском насчитывалось до четырех тысяч насыпей, тысячи курганов были насыпаны под Киевом и Черниговом (многие из них были снивелированы еще в древности в результате роста городской территории и в процессе христианизации), возле Тимерева и других погостов Верхнего Поволжья, во Владимиро-Суздальском ополье; огромные насыпи — сопки — возводились на Новгородчине и т. д. Уже те физические усилия, которые затрачивало древнерусское общество на сооружение курганов — памятников предкам, свидетельствуют о важности тех проблем, которые были связаны со смертью сородича (особенно вождя, воеводы или князя). Само по себе сооружение надгробного памятника во всяком обществе было залогом связи поколений и, стало быть, единства этого общества — общности предков и потомков. Однако реконструкция конкретных представлений о смерти и посмертной судьбе, свойственных славянской (и древнерусской) дохристианской культуре, предельно затруднена.
Славянскую языческую погребальную обрядность второй половины 1-го тыс. н. э. можно считать явлением парадоксальным: ее характерными (с точки зрения археологии) признаками является, как указывал еще Л. Нидерле, отсутствие явно выраженных характерных признаков. Погребальный обряд славян сохранил традицию полей погребений раннего железного века, усугубленную нивелирующим влиянием позднеримской провинциальной культуры: остатки трупосожжений, совершенных преимущественно на стороне, захоранивались на бескурганных могильниках или под небольшими полусферическими насыпями в ямках, реже — в урнах, практически без сопровождающего инвентаря. В сравнении с синхронными древностями соседних народов — тюркских, германских, балтских и финно-угорских — славянский погребальный обряд выглядит бедным. Это обстоятельство, однако, не должно давать оснований для прямолинейных социологических выводов о неразвитости у славян социальной дифференциации. «Бедность» и «богатство» характеризуют в данном случае не прямо социальную действительность, а погребальный культ, традицию, а не просто реальность: к примеру, отсутствие оружия в славянских погребениях свидетельствует об отсутствии традиции оставлять оружие с умершим, но, конечно, не об отсутствии вооружения у славян.
Эту специфику погребального обряда как источника для социологических реконструкций необходимо учитывать и при анализе погребальных древностей соседних народов — в том числе балтских и финно-угорских. У этих народов, особенно в Литве и Поволжье (мордва, мурома), наличие социальной дифференциации, в том числе воинских погребений, прослеживается по погребальным памятникам на протяжении почти всего 1-го тыс. н. э. На этом основании делались выводы чуть ли не о процессах классообразования и феодализации у балтов и финнов, хотя в действительности погребальные и другие почести, воздаваемые родоплеменной знати, были наибольшими в последний период первобытнообщинного строя. Соседи славян — балты и финны — не превосходили их, а скорее отставали от славян по уровню социального развития, процессам государствообразования.
«Бедность» инвентаря остается дифференциальным признаком славянских погребений вплоть до X в. (до конца языческого периода), что наглядно проявляется, в частности, когда в одних и тех же некрополях встречаются славянские и «богатые» скандинавские курганы. При этом богатство и бедность инвентаря также не являются надежным показателем социального ранга погребенного без учета иных признаков — размеров кургана, количества жертвоприношений и т. п. Недавние остеологические исследования в Гнездове показали, что малоинвентарные кремации содержали кости принесенных в жертву животных — коня, собаки и птицы; эта иерархия жертв характеризует, скорее, ритуал социальных верхов, чем бедных низов, во всяком случае примыкает к жертвенному комплексу дружинных курганов (с набором вооружения, богатым инвентарем и т. п.).
Разумеется, проблемы как этнической, так и социальной интерпретации погребальных памятников должны решаться конкретно, с учетом места погребального памятника в могильнике, могильника — в культурном ареале и т. д. Сам по себе обычай трупосожжения (и вообще погребения) с конем свойствен всем соседям славян, включая финнов, тюрков, «находников»-скандинавов, не говоря уже о считающемся «классическим» примере балтов, у которых погребения с конем известны с начала н. э. Обычай сожжения коня вместе с хозяином известен и культуре смоленских длинных курганов, приписываемой кривичам, но развивающейся в традициях восточнобалтской культуры.
Так или иначе, судя по тому, что кости лошади и собаки обнаружены и в безурновых кремациях середины 1-го тыс. н. э. в Подесенье, традиция сожжения с жертвенными животными может быть признана достаточно архаичной, даже балто-славянской; как уже говорилось, для древностей первой половины — середины 1-го тыс. н. э. различение славянских и балтских традиций проблематично.
Наличие костей лошади и собаки в погребении не свидетельствует прямо о знатности (или богатстве) погребенного: в большинстве индоевропейских традиций эти животные могли не столько отмечать социальный статус, сколько выполнять культовую функцию — служить проводником умершего на тот свет: ср. смерть Вещего Олега «от коня» (глава 4.2.1) и т. п. В частности, в балто-славянской традиции (и индоевропейской ретроспективе) конь может быть связан с божеством загробного мира и «скотьим богом» Волосом/Велесом — Велсом (Вялнясом). Впрочем, тот же Волос является и богом богатства, воплощением которого служит скот (Топоров 1987. С. 17-18; см., в частности, об обрядах сожжения жертвенных животных, в том числе коня — С. 47-48). Итак, соотношение бедность/богатство в обрядовой сфере неравнозначно этому же соотношению в сфере социальной, точнее, «имущественной» (ср. Петрухин 1995. С. 195 и сл.).
Другое дело, когда речь идет о погребальных монументах, и величина кургана призвана была увековечивать социальный статус погребенного. Но и здесь в догосударственную пору славянского язычества архаичные родоплеменные традиции оставались самодовлеющими: в археологических культурах, восходящих к кругу памятников Прага-Корчак, в южнорусских землях распространены были полусферические курганные насыпи небольшой высоты (до 1 —1,5 м), определенно не демонстрирующие признаков социальной — по величине насыпи (и имущественной — по погребальному инвентарю) —дифференциации.
Более определенными были «племенные» различия, о которых говорилось в главе 2. Длинные курганы псковских и полоцко-смоленских кривичей отличались по обряду от полусферических курганов юга Руси: впрочем, в основе длинной насыпи также был полусферический («круглый») курган, что, может быть, свидетельствует о единых истоках этой обрядности (до сих пор не выявленных); насыпь удлинялась по мере подзахоранивания новых кремированных останков и достигала в псковском ареале 100 м и могла содержать десятки захоронений (на Смоленщине длина колебалась в пределах 10-30 м; из последних обзорных работ см. Седов 1995. С. 211 и сл.). В отличие от длинных курганов, новгородские сопки наращивались в высоту (от 2 до 5, иногда до 10 м) в 2-3 и более приемов, и каждый ярус мог содержать по нескольку захоронений. В основании крупных сопок устраивался круг из камней, каменные выкладки другой формы и жглись костры — последний обряд, как уже отмечалось, напоминает костры «святилища» в Перыни. При всей монументальности описанных сооружений, особенно сопок, располагавшихся, вдобавок, цепочками на возвышенных местах, погребальный обряд оставался «бедным», большая часть кремаций вообще была безынвентарной. Правда, и в сопках обнаружены были кости коней (в отдельных случаях — целый скелет лошади или череп), а также других животных, но это — показатель архаичной балто-славянской традиции (ср. свод материалов: Седов 1970). Каменные конструкции в основании сопок также находят аналогии в балтийском ареале — в курганных древностях северной Литвы и Латвии 1 тыс. до н. э.— 1 тыс. н. э., что может свидетельствовать об участии балтов (и прибалтийских финнов?) в формировании племенной традиции словен новгородских (ср. Петренко 1994. С. 114). Ныне т. н. сопковидные насыпи относят и к культуре псковских длинных курганов. Эти процессы — естественные для эпохи расселения славян в VI—X вв.
В погребальных памятниках «племенных» славянских культур — длинных курганах, приписываемых кривичам, и сопках словен новгородских интерпретаторы обряда видят обычно «семейно-родовые» усыпальницы: в одной насыпи хоронили членов одного рода. Как бы то ни было, «племенной» погребальный обряд культуры сопок и длинных курганов разительно отличается от того обряда, который формируется в X в. на погостах типа Гнездова в Верхнем Поднепровье, Тимерева в Верхнем Поволжье и в Русской земле в Среднем Поднепровье, в округе Киева и Чернигова. Здесь очевидны уже и социальные, и имущественные различия в ранге погребенных, и различия в типах обрядов. При том, что господствующей формой погребального памятника становится обычный полусферический курган, а формой обряда — трупосожжение, высота насыпи, размеры и устройство погребального костра сильно варьируют. В последние годы на этих памятниках обнаруживают все больше погребений, совершенных по обряду ингумации: кроме богатых языческих ингумаций в просторных камерах, где (в соответствиями с описаниями восточных авторов) русский дружинник погребен с конем, а иногда — и с женщиной, отрыты также камеры и простые могильные ямы, где умерший погребен головой на запад, а среди прочих украшений X в. встречается нательный крест. При всем кажущемся разнообразии обрядов и даже конфессиональных различиях, отмечающих появление первых христианских погребений, совершенно очевидно, что материалы этих некрополей отражают единые тенденции развития древнерусской культуры от Поднепровья до Верхнего Поволжья и Ладоги, тенденции, связанные с деятельностью дружины и ее «служебной организации» — населения, обслуживающего потребности дружины в городах и на погостах (Петрухин 1995. С. 154 и сл.). Эти тенденции пронизывали не только «дружинную» культуру Руси — те же типы ритуала синхронно развиваются и в начальном пункте великого пути из варяг в греки, в Бирке, шведском городе IX-X вв. «Ансамбль» этих некрополей (термин Г. С. Лебедева) венчали т. н. большие курганы — насыпи, выделяющиеся своими размерами и пышностью обряда.
Древнерусские монументальные погребальные памятники (высотой от 2 до 10 м) по обряду близки «большим курганам» Скандинавии, но не сопкам (там нет «ярусных» погребений). Собственно в Киеве — столице Древнерусского государства — большие курганы были, очевидно, снивелированы в христианскую эпоху как памятники языческого культа: в летописи под 1044 г. сохранилось известие о перезахоронении князей Ярополка и Олега Святославичей по христианскому обряду. Но большие курганы были исследованы в Гнёздове — центральном пункте на пути из варяг в греки, связующем Волховский и Днепровский бассейны, Чернигове — втором по значению (после Киева) городе южной Руси и в Черниговской земле северян, известны и в древлянской земле, подчиненной киевскими князьями в том же X в.: один из курганов под Искоростенем назывался «могилой Игоря» — под этим городом, согласно летописи, действительно погиб и был похоронен этот русский князь.
И скандинавская, и древнерусская раннеисторическая традиция (и Снорри Стурлусон, и Нестор-летописец), описывая деяния первых правителей, особое внимание уделяют мотивам их смерти и месту погребения; Ибн Фадлан, видевший сожжение в ладье знатного русского дружинника в Болгаре, рассказывает, что по завершении обряда на свеженасыпанном кургане водружается столб, на котором пишут имя погребенного мужа и «царя русов» (Ковалевский 1956. С. 146). Погребальный памятник — это не просто могильная насыпь, конструкция, закрывающая погребение, это памятник становления государственной традиции, «памятник истории», воплощение исторической памяти народа, необходимое и особенно актуальное в дописьменный период государственного развития (как и всякий могильный памятник, воплощающий генеалогическую память племени, рода, наконец, семьи). Характерные для больших курганов Руси и Скандинавии черты погребального обряда — «языческое» трупоположение или трупосожжение (на Руси), часто в ладье, использование оружия и пиршественной посуды, иногда размещенных на кострище особым образом (оружие — в виде «трофея»), жертвоприношения (в том числе человеческие). Жертвенный котел со шкурой и костями съеденного во время погребального пира козла (или барана) располагался в центре кострища курганов Гнёздова и Чернигова; в кургане на королевской усадьбе Хофгарден возле Бирки котел содержал человеческие волосы (видимо, принадлежавшие жертве, подобной той «девушке» на «похоронах руса», которую описывал Ибн Фадлан), как и в самом большом кургане могильника Кварнбакен на Аландских островах — оттуда группа скандинавов переселилась в Верхнее Поволжье в середине IX-X вв. Вся обстановка погребального обряда свидетельствует о том, что совершавшие ритуал следовали представлениям о Вальхалле, загробном чертоге Одина, где бог принимал избранных героев — ярлов и конунгов, павших в битве, зале, украшенном доспехами, с пиршественным котлом, где варится мясо «воскресающего зверя» и т. д. (ср. Петрухин 1999).
Эти представления были исполнены для язычества — особенно язычества последней, дохристианской поры, эпохи кризиса родоплеменных традиций — особого смысла. Правитель — вождь, конунг или князь — был не только гарантом права и благополучия («мира и изобилия» в скандинавской традиции) своей страны: он был гарантом всех традиционных устоев, включая сферу религиозного, «сверхъестественного» — устоев Космоса. Один набирал в Вальхалле дружину героев, чтобы сразиться с угрожающими миру богов и людей силами Хаоса, и смерть правителя — особенно смерть в бою — должна была усилить эту дружину; поэтому при похоронах правителей соблюдался воинский ритуал и сам погребальный обряд воспроизводил загробную жизнь в Вальхалле. Поэтому особую значимость в сфере религиозного культа вообще получали погребальные памятники правителей — большие курганы.
Большие курганы и в русской, и в скандинавской научной литературе принято называть княжескими, или королевскими. Скандинавская традиция сохранила предания о родственных связях погребенных в больших курганах. Старая Упсала была столицей династии Инглингов, конунгов Свеаланда, предком которой, через Ингви-Фрейра, считался сам Один. К этой династии Снорри Стурлусон (Сага об Инглингах, глава XLVIII) возводил и династию норвежских конунгов, погребенных в своих кораблях под большими курганами в Борре. Конечно, полулегендарные генеалогии, возводящие род правителей прямо к божественным первопредкам, — это мифологический мотив, предыстория, а не история. Тем не менее, и датская легенда о Скьольдунгах, погребенных в Лейре и возводящих свой род к Одину, и англосаксонское предание, записанное Бедой (Bede 1;15), о королях — потомках Хенгиста и Хорсы, считавших своим предком то же божество, позволяют представить себе тот относительно единый этнокультурный контекст, в котором развивалась и традиция больших курганов, моделирующих Вальхаллу — загробный чертог Одина. Показательно, что эти генеалогические легенды связаны с другим широко распространенным мифоэпическим мотивом — переселенческими сказаниями, легендами о прибытии правителей из-за моря (Скьольдунг) и прямо с легендами об их призвании как в англосаксонской, так и в древнерусской традициях. Помимо чисто «типологического» сходства русскую и англосаксонскую легенды объединяет и единая «формульность»: ср. «земля наша велика и обильна» в легенде о призвании варяжских князей — terra lata et spatiosa в легенде о призвании Хенгиста и Хорсы и т. д. (Тиаидер 1915).
Уже говорилось, что эвгемеризм — возведение генеалогии правителей к языческим богам — не был свойствен древнерусской традиции: конечно, происхождение первых русских князей было «заморским» — это характерный мотив преданий о культурных героях; но их происхождение было не божественным, а историческим — они были призваны «по ряду». Согласно древнерусской легенде о призвании варяжских князей, три брата-правителя садятся в древнерусских городах: русская раннесредневековая история во многом сводится к распределению городов и их волостей между братьями, принадлежащими единому княжескому роду, осуществляющими «родовой сюзеренитет» над Русской землей. И хотя по летописи, вплоть до эпохи Святослава на Руси правил один князь, напомним, что договоры руси с греками Олега 911 и Игоря 944 гг. заключались от имени «всей княжьи» и их доверителей «от рода русского»; большие же курганы насыпались как раз в эпоху Игоря и Святослава. Считалось, что в Чернигове, на Левобережье, при Святославе сидел не князь, а воевода Претич, которому даже приписывают Черную могилу (Лебедев 1985. С. 243). Но, как уже говорилось (4.2.3), из летописи не вполне ясно, воеводой какого князя был Претич — самого Святослава, или его родича, княжившего в Левобережье. Кроме того, князь и воевода в древнейший период русской истории — ближайшие родственники: не случайно Олег при малолетнем Игоре, судя по договору с греками 911 г., имел титул князя, не случайно он назвал Аскольда и Дира узурпаторами, поскольку те сами не были князьями и не принадлежали княжескому роду. Д. А. Авдусин (вслед за Б. А. Рыбаковым) обращал внимание и на уникальные черты ритуала — жертвенные котлы, — которые объединяют большие курганы Гнездова и Чернигова, и предполагал, что в этих курганах похоронены родственники. Вероятно поэтому, что в главных центрах Руси, в Верхнем и Среднем Поднепровье, сидели ближайшие родственники князя, как в Новгороде, а затем и в других городах сидели его сыновья. Очевидно, всему княжескому роду и принадлежали большие древнерусские курганы X в.
Характерно, что большие курганы сохранились лишь в Верхнем и Среднем Поднепровье — их нет в Поволховье, в том числе возле Новгорода — первой «столицы» Руси. Небольшой скандинавский некрополь IX—X вв. исследован возле Ладоги и приписывается иногда дружине самого Рюрика (Кирпичников 1985), но этот некрополь состоит из невысоких насыпей. Доминирующими в историческом ландшафте Поволховья остаются сопки, и это знаменательно. Исследователи этих памятников давно предполагали, что почестей быть погребенным под сопкой удостаивались отнюдь не все члены словенского племени, а лишь представители родоплеменной знати. Это была та знать, которая продиктовала «ряд» о призвании варяжских князей. В одной из волховских сопок под Ладогой, в погребении второй половины — конца X в., найдена трапециевидная привеска с княжеским знаком (Петренко 1994. С. 82, 88) — тем же знаком, который отмечал упомянутые деревянные пломбы для опечатывания дани из раскопок в Новгороде. В. Л. Янин (1982) предположил, что и эти привески были знаками вирников —сборщиков дани: словенская племенная знать принимала участие в сборе и перераспределении государственных доходов. Если в Перыни действительно обнаружены не святилища, а основания снивелированных сопок (ср. Конецкий 1995), то они могли принадлежать представителям языческой новгородской знати, чьи погребальные памятники, как и курганы киевского и древлянского князей, были уничтожены после крещения Руси (Сохранилось позднее новгородской предание о том, что новгородские богатыри были похоронены на Волотовом поле: там же была могила Гостомысла. Это предание соотносит богатырей и Гостомысла с доисторическими великанами — волотами (Веселовский 1906. С. 15)).
Для понимания истоков княжеского культа на Руси существенно, что имена первых князей — Рюрик (Хрёрек), Олег (Хельги), Игорь (Ингвар — антропоним, содержащий имя Ингви-Фрейра) — относятся к княжеским и в скандинавской, и в древнерусской традициях: это позволяет предполагать не просто «этнокультурные», но и ранние генеалогические связи княжеских родов, практиковавших погребение под большими курганами. Значение самих «варяжских» имен первых русских князей, очевидно, осознавалось в славяно-русской среде: не случайно Олег-Хельги был прозван Вещим — прозвище в целом соответствовало «сакральному» значению др.-сканд. имени Helgi, «священный (святой)» (ср. де Фрис 1970. 1. С. 338-339). Особая распространенность этого имени в русской княжеской среде уже в X в. засвидетельствована и летописью, где это имя носят жена Игоря, наследника Вещего Олега, Ольга (Helga) и ее внук, сын Святослава Олег Древлянский, и т. н. Кембриджским документом, повествующем о конфликте некоего Хельгу, «царя Руси», с Хазарией и Византией в 941 г. Многочисленные попытки отождествить последнего князя, погибшего где-то «за морем» в Персии (?), с Вещим Олегом безосновательны не только потому, что противоречат русским летописям, которым, в частности, хорошо известна «Могила Олега» в Киеве (ср. Приселков 1996. С. 78), но и потому, что они не учитывают «родового» характера древнерусской княжеской власти — «князьями» («царями» в восточной традиции) именовались представители княжеского рода в целом. Легендарная смерть Вещего Олега «от коня» (в изложении летописца-христианина призванная разоблачить его «вещий» дар) напоминает этиологический миф о происхождении смерти (конь и змея как хтонические существа — проводники умерших в иной мир: ср. выше о конях в «дружинных» погребениях и т. п.); даже новгородская редакция легенды о смерти Олега на пути за море может оказаться вариантом описания посмертного пути на тот свет. Вместе с тем «исторический» контекст Начальной летописи свидетельствует о традиционных и даже «ритуализованных» конфликтных отношениях между князем и его дружиной — русью, клянущейся громовержцем Перуном при заключении победоносного договора с греками, и рядовым войском — словенами, приверженцами «скотьего бога» Волоса. Не является ли мифологизированная смерть Вещего Олега, отнесенная летописцем к осени — началу полюдья у подвластных князю славянских племен, — отражением гибели князя во время сбора дани? Сама «мифологизация» его смерти выглядит как «месть» со стороны Волоса, атрибутами которого (в реконструкции — см. Иванов, Топоров 1974) были змея и конь, — князь был принесен в жертву «скотьему богу».
Мифологизированная смерть Олега в контексте социального и ритуального противостояния руси (княжеской дружины) и словен может быть соотнесена с ритуализованной смертью его наследника Игоря, казненного восставшим славянским племенем древлян во время сбора дани (ср. Петрухин 1995. С. 128-153). Чрезмерная алчность Игоря, требовавшего, несмотря на протесты древлян, дани сверх договора — «пакта», едва ли может быть объяснена лишь настоянием его дружины (большую часть которой он распустил по домам). Неудачи его походов на Византию требовали не только «материальной» компенсации — Игорю изменила «удача»: ср. скандинавские представления об удачливости — др.-исл. heill (буквально — «невредимый, здоровый, целый») и т. п., которая должна быть присуща конунгам, и славянские представления о доле и т. п. вплоть до «языческого» понимания святости как «цельности — целостности», постоянно увеличивающей свой плодоносный (и властный) потенциал (ср. Гуревич 1972. С. 52 и сл.; Топорова 1994. С. 113 и сл.; Топоров 1995. Т. 1. С. 441 и сл.). Так или иначе, Игорь отправился с малой дружиной на верную смерть, которая была «ритуализована» древлянами — носила характер казни-жертвоприношения.
Вероятность такой интерпретации деяний Игоря подтверждается внелетописными известиями о схожем поступке его не более удачливого компаньона — упомянутого Хельгу Кембриджского документа: разбитый хазарами, а затем греками, «постыдившись вернуться в свою (собственную) страну, он бежал морем в Персию (?), и там он и все его войско пало» (ср. Голб, Прицак 1997. С. 142). Наконец, сын Игоря — первый русский князь, носивший славянское имя, — Святослав практически повторил «судьбу» своих предшественников. После исследований В. Н. Топорова, посвященных феномену «русской святости», стало очевидным, насколько само имя Святослав соответствовало его деяниям: Святослав — «это не тот, чья слава "сакральна", но тот, у кого она возрастает, ширится» (Топоров 1995. С. 486 и сл.). Вначале он был более удачлив, чем Хельгу и Игорь — его деяния продолжали и «расширяли» сферу активности Вещего Олега, равно как и его имя оказывалось славянским «продолжением» скандинавского антропонима. Разгромивший Хазарию князь хочет утвердиться «в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато [...], из Чех же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора» и т. д. Разбитый греками, Святослав пренебрегает мудрым советом старого воеводы и по пути на Русь идет в печенежскую засаду. Следуя своей максиме — «мертвые сраму не имут»,—он избирает героическую — славную — смерть на Днепровских порогах. Эта смерть (как и смерть Игоря) находит свое ритуализованное воплощение — печенежский хан делает из черепа Святослава пиршественную чашу. Эта смерть-жертвоприношение достойна героя Вальхаллы, но одновременно — и той славы, которая характеризует феодализирующуюся княжескую этику и славянские княжеские имена — Ярослав, Всеслав и т.д.: ср. предполагаемую Ю. М. Лотманом (1993. С. 111-126) оппозицию честь — слава, отражающую в древнерусских текстах различение княжеской (державной) славы и дружинной (вассальной) чести.
Предел славы, положенный Святославом, был пределом и концом того архаического понимания «святости», которое требовало «экстенсивного» расширения собственного культурного пространства и власти («своей земли») находящимся в центре этого пространства князем-воителем (В удельный период князья могли повторять «рыцарскую» максиму: «луче братья измрем еде, нежели сором възмем на ся», — говорит Изяслав Мстиславич перед битвой с Юрием Долгоруким (ПСРА. Т. 2. Стб. 401). Для них изгнание из отчины (изгойство) действительно было подобно смерти, равно как для их дружины — лишение сел. Ср. слова того же Изяслава, возвращающегося в Русскую землю, своей дружине: «Вы есте по мне из Рускы земли вышли, своих сел и своих жизнии лишився, а яз пакы своея дедины и отчины не могу перезрети, но любо голову сложю, пакы ли отчину свою налезу и вашю всю жизнь» (там же. Стб. 409-410). Еще более знамениты слова Игоря Святославича, сказанные перед битвой с половцами на Каяле: «Оже ны будеть не бившися воротитися, то сором ны будеть пуще и смерти; но како ны Бог даст» (там же. Стб. 639). «Рыцарский» порыв Игоря получает, однако, характерную отповедь со стороны великого киевского князя Святослава Всеволодовича: «Дал мне Бог притомити поганыя, но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю». (Там же. Стб. 645)). Характерно, что киевляне упрекали Святослава как раз в том, что тот «чужой земли ищет, а свою оставил». Освоение славянами «своей земли» — будущей Святой Руси, земледельческая колонизация, не воспринималось как завоевание: в летописной традиции это освоение приравнивалось к обретению Земли обетованной.
Уже мать Святослава княгиня Ольга, носившая сакральное княжеское имя и усмирившая восставших древлян как воительница-«валькирия», обратившись к обустройству Русской земли — обновлению договорных отношений с данниками-славянами, отказалась от традиционных языческих «ценностей», приводящих к внутренним межплеменным конфликтам, и приняла крещение. Княгиня, расправившаяся с древлянами на тризне по мужу и насыпавшая курган над его могилой, после крещения «заповедала ...не творити трызны над собою». В раннем списке «Жития Ольги» (XIII-XIV вв.) княгиня завещает Святославу «погрести ся с землею равно» (Гриценко 1989. С. 284-285) — не насыпать кургана. Новый княжеский обряд погребения явил первым русским христианам и новое чудо: по свидетельству «Памяти и похвалы Владимиру» Иакова Мниха (XI в.?) « в гробе тело еа честное и нераздрушимое пребывает и до сих дний», в чем можно было убедиться благодаря оконцу, которое оставил в ее гробу князь Владимир, когда перезахоранивал останки своей бабки в Десятинной церкви. Сама Десятинная церковь была построена на месте старого киевского некрополя, где обнаружены и погребения первых русских христиан — современников Ольги: возможно, место строительства первого каменного собора Руси было приурочено к месту погребения ее первой христианской правительницы.
Чудеса, происходившие у мест упокоения первых князей-христиан, в том числе Бориса и Глеба, были не только основанием для канонизации: княжеские гробницы были местами культа и в дохристианский период, и новые святыни оказывались включенными в традиционный контекст княжеского погребального культа. Характерно, что определенного места смерти Святополка Окаянного, убийцы своих братьев Бориса и Глеба, летописец не указывает (в отличие от мест упокоения прочих князей) — тот «испроверже зле живот свой» в пустыне «межю Ляхы и Чехы». Наконец, «могилы» последних языческих князей были раскопаны в 1044 г. при Ярославе Мудром: «Выгребоша 2 князя, Ярополка и Ольга, сына Святославля, и крестиша кости ею, и положиша я в церкви святыя Богородица» — Десятинной (ПВЛ. С. 67). Неканоничность этого акта Ярослава Мудрого (крещение умерших было запрещено Карфагенским собором) до сих пор является предметом обсуждения: допускают, что Ярополк и Олег приняли «оглашение» при жизни их бабки Ольги (ср. Макарий Ч. 2. 1995. С. 59). Но возможно, задачи создания усыпальницы всего княжеского рода имели и более прагматический и специфически «древнерусский» характер: Ярополк и Олег, равно как Борис и Глеб, погибли в распрях между братьями — членами княжеского рода, тех распрей, главным участником (и даже инициатором) которых был победивший и добившийся единовластия в Русской земле Ярослав. Так или иначе он устранил своих соперников-братьев, но не отменил родового характера княжеской власти на Руси: единственное, что могло сохранять порядок и целостность Русской земли — это братняя любовь и подчинение старшему брату, киевскому князю; такой «завет» Ярослав, по летописи, оставил своим сыновьям-наследникам. Ярослав «объединил» в усыпальнице Десятинной церкви распадающийся княжеский род — инициаторов и жертв первой усобицы. И последующие (в частности, в Киевском своде 1200 г.— Приселков 1996. С. 88) посмертные летописные панегирики говорят о кончине князей, используя ветхозаветный фразеологизм — «и приложися к отцемь своим и дедом своим»: русский княжеский род уподоблялся роду праведных ветхозаветных царей.
Не случайно и последней совместной акцией князей — наследников Ярослава было перенесение — и объединение — мощей Бориса и Глеба в новую церковь в Вышгороде в 1072 г. (накануне нового всплеска усобиц). Для княжеской власти христианский подвиг Бориса и Глеба заключался, в первую очередь, в том, что они не подняли руки против старшего брата — правителя, совершили подвиг братней любви и — в то же время — подвиг мудрых устроителей христианского государства, приносящих добровольную жертву ради единства Русской земли. Как мы видели, представление о «жертвенности» не было чуждо и языческим предкам первых христианских князей, равно как и представление о княжеском роде, правящем Русской землей в целом (ср. Комарович 1960). Так, перед смертью в 1194 г. киевский князь Святослав поклоняется раке Бориса и Глеба в Вышгороде, «по сем же приде ко отни гробонице» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 679-680). Молитва «дедня и отня» спасала князей в битвах, что позволяло современным исследователям считать ее «полуязыческим» пережитком культа предков (см. ниже).
То обстоятельство, что смерть правителя воспринималась как жертва, приносимая ради спасения страны и даже мира (ср. сюжет «Золотой ветви»), проясняет традиционные основы христианского королевского и княжеского культа на Руси, равно как и в Скандинавии. Культ Олава Святого и культ князей Бориса и Глеба, погибших в усобицах эпохи становления Норвежского и Русского государств и ставших покровителями новой христианской государственности, в этом отношении продолжили древнюю дохристианскую традицию. Однако «вольная жертва» Бориса и Глеба (Топоров 1995. Т. 1. С. 490), не поднявших меча против брата и даже подосланных убийц, носила совершенно иной характер, противоположный жизненным установкам и ритуализованной героической смерти князя-воителя. Осознание этой противоположности было свойственно русской культуре уже первого века христианства, судя по тем словам, которые вложил в уста Бориса составитель «Сказания о Борисе и Глебе» (ПЛДР. XI век. С. 282): «Аще пойду в дом отьца своего, то языци мнози превратять сьрдьце мое, яко прогнати брата моего, яко же и отьць мои преже святаго крещения, славы ради и княжения мира сего, и иже все мимоходить и хуже паучины. [...] Чьто бо приобретоша преже братия отьца моего или отьць мои? Къде бо их жития и слава мира сего, и багряница и брячины, сребро и золото, вина и медове, брашьна чьстьная и быстрин кони, и домови красьнии и велиции, и имения многа, и дани, и чьсти бещисльны, и гърдения, яже о болярех своих?»
Эта противоположность вольной жертвы героической смерти в бою (ср. гибель норвежского конунга Олава Святого в битве при Стикластадире и т. п.) имела особое значение для формирования собственно древнерусской — русско-славянской — христианской традиции. Показательно, что варяжские князья-воители не оставили памяти в фольклоре: центральная фигура былин киевского цикла — князь Владимир — отнюдь не воин, но устроитель эпического мира. Ср. летописную характеристику: «Бе бо Володимер любя дружину, и с ними думая о строе земленем, и о ратех, и о уставе земленем, и бе живя с князи околними м и р о м ь (разрядка моя — В. П.), с Болеславом Лядьскымь, и с Стефаномь Угрьскымь, и с Андрихомь Чешьскымь», по которой Владимир являет противоположность своему отцу Святославу, ждущему от этих стран дани. Эта — повторяющаяся «этикетная» формула Повести временных лет о князьях (Вещем Олеге, Игоре Старом и Владимире), княжащих в Киеве, в своей земле, «мир имея ко всем странам» — имеет, как и многие другие летописные формулы, библейский, ветхозаветный источник: в III Царств (4.28) о Соломоне говорится, что «был у него мир со всеми окрестными странами» (ср. Барац 1926. Т. 1. С. 624). Но эта цитата указывает на центральный для летописца сюжет — княжение Владимира, который и сопоставлялся с Соломоном: его предки с их «устроеньем отчим и дедним» воспринимались как предтечи подлинного устроителя и просветителя Русской земли. С. Сендерович (1994, 1996) усматривает парадигму начального летописания в противопоставлении княжеских имен с формантами -мир и -полк: князья с «воинственными» именами — соперники Владимира Святого и Владимира Мономаха Ярополк и Святополк (добавим к ним скандинавское по происхождению имя главного противника Мономаха Олега) — хотят не мира, но «рати».
Соответственно, Борис и Глеб стали культурными героями восточнославянского фольклора, продолжающими архаические традиции «русской святости» — благодатной силы, простирающейся над миром: они (замещая других «парных» святых — Козьму и Демьяна) куют первый плуг — совершают подвиг, который в славянской культуре ставится выше воинских подвигов (как пахарь Микула сильнее князя Вольги). Очевидно, что популярность святых Бориса и Глеба в немалой степени связана с их иконописным изображением — мотив двух всадников в балто-славянской и индоевропейской ретроспективе воплощал миф о священных близнецах — носителях плодородия, в русской фольклорной «перспективе» — всадников у мирового дерева (в росписях на прялках и т. п.). При этом дни памяти Бориса и Глеба приходятся на 2 мая и 24 июля (старого стиля), что отмечено соответствующими пословицами — «Борис и Глеб сеют хлеб», «Борис и Глеб — поспел хлеб» (Афанасьев. Т. 1. С. 560-562); даже мольба Глеба, обращенная в древнерусском «Сказании о Борисе и Глебе» к убийцам, — «не пожинать несозревшего колоса» — отсылает к тому же земледельческому архетипу «русской святости» (Топоров 1995. Т. 1. С. 500 и сл.), которому не противоречит и идея жертвы, обеспечения заступников на том свете. Таким образом, Борис и Глеб оказывались не только первыми святыми князьями, но и первыми общерусскими святыми, объединяющими государственный — княжеский — культ святых покровителей Русской земли в широком (и постоянно расширяющемся с расширением государственных границ) смысле и народное почитание носителей ширящегося «святого» плодородия, матери сырой земли.