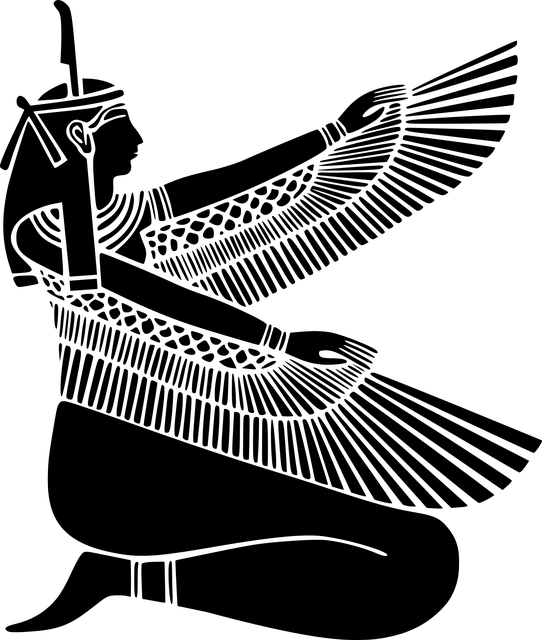О современных задачах истории
О современных задачах истории
Петр Кудрявцев
О СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ ИСТОРИИ (1)
О современном состоянии и значении всеобщей истории.
Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского Университета орд. проф. всеобщей истории Т. Грановским.
Москва, 1852.
О физиологических признаках человеческих пород и их отношении к истории.
Письмо Эдвардса к А. Тьерри, переведенное и дополненное Т. Грановским
(«Магазин землеведения и путешествий», изд. Н. Фроловым)»
Москва, 1852.
Среди множества писаний, изготовляемых к срокам и едва переживающих время своего появления, особенно приятно встретиться с произведением зрелой, обдуманной мысли. Не часто достается такое удовольствие, зато ценится оно тем более. Оно не только питает мысль, но и призывает ее к повой деятельности. Сумма умственного удовольствия значительно возрастает, когда, поверив свои понятия чужой опытной мыслью, возбуждаешься ею к дальнейшим соображениям и выводам. Слово, одаренное этой возбудительной силой, без сомнения, не праздно; даже разноглася в том или другом частном пункте с писателем, все же остаешься благодарен ему как за обильный материал для мысли, так и за благодетельное влияние на усиленную ее деятельность. Нам, конечно, не поставят в упрек, что мы только теперь говорим о двух литературных произведениях, из которых одна появилось в самом начале прошлого года, а другое — в половине его. Именно потому мы и считаем себя вправе сделать такое отступление от обыкновенного порядка, что совершенно убеждены в неэфемерном значении двух сочинений, которые изданы под этими заглавиями. Речь г. Грановского, вместе с переведенной и дополненной им статьей А. Тьерри (2), есть, по нашему твердому убеждению, одно из тех важных и прочных приобретений нашей литературы в прошлом году, которые должны содействовать к распространению основательных знаний о предмете — в настоящем случае знаний исторических. С произведениями этого рода, каков бы ни был их внешний объем, знакомить публику, полагаем мы, никогда не поздно.
Г. Грановский пишет и издает мало. Не раз делали ему этот упрек пишущие и печатающие много. Всякий любит мерить на свой аршин. Кто, однако, не знает, что литературное достоинство всего менее измеряется многописанием? Есть словоохотливые писатели, любящие выносить перед публику каждое свое личное ощущение; за недостатком другого материала, они готовы, пожалуй, вести подробную летопись того, что делается у них в семье, в кабинете; хочет или не хочет публика, они расскажут ей, что пишут или только намерены писать они и что читают и даже на какой странице остановились в чтении. За такими писателями не угоняешься; у них всегда найдется, о чем поговорить с «благосклонным читателем». С публикой у них идет постоянный, непрерывающийся разговор; не случилось целой статьи, он не забудет напомнить о себе где-нибудь хоть подстрочным замечанием с выразительным знаком вопрошения. Винить ли г. Грановского, что он понимает дело писателя несколько иначе, что литература никогда не была для него складочным местом личных ощущений, имеющих цену разве лишь для самого пишущего, что из уважения к читающей публике он привык делать строгий выбор между своими работами и не иначе являться на суд ее, как с зрелой и обдуманной мыслью? Нельзя, конечно, требовать, но как не пожелать, чтоб и другие поучились у него этой благоразумной разборчивости. Издатели потерпели бы убыль в счете листов печатной бумаги, но литература — мы уверены — выиграла бы в достоинстве и благородстве, освободясь от лишнего хлама, без нужды ее обременяющего.
Г. Грановский видит в литературе не поденное ремесло, а благородное искусство. Немногие еще в наше время сохранили столько чувства изящной формы и чистоты вкуса. Редко можно встретить изложение более строгое и воздержанное на слова и вместе более выразительное по отношению к самому содержанию. Г. Грановский не расточителен на слова, потому что знает им цену, и умеет усилить вес их своим употреблением. Сжатая речь его проста, стройна и в то же время оригинальна. Так приятно отдохнуть на ней после широковещательных разглагольствий, которыми наводняют литературу многочисленные дилетанты, усиливающиеся, во что бы то ни стало, выбиться из толпы. Не щеголяя фразою, не наряжаясь в нее, г. Грановский всегда умеет сообщить ей особенный колорит и движение. Самое построение фразы отличается у него своими особенностями. В речи его не замечается недостатка слов и нет ни малейшей распущенности. Разные объяснительные и дополнительные речения, свойственные языку, так искусно подбираются у него в средину речи, что фраза представляется совершенно замкнутой, нисколько не теряя, впрочем, своей полноты и определенности. Те, которые не по слуху только знакомы с произведениями г. Грановского, конечно, не раз замечали эту яркую особенность в его способе изложения. Не решая, в какой мере согласуется она с неизменными законами языка, мы, однако, не можем не отличить ее как весьма характеристичную черту в слоге писателя. Благородство и изящество формы, оригинальная манера, слог — все это вещи очень редкие в наше время; не ценить их нельзя, когда неряшество, дряблость и распущенность языка стали до такой степени обыкновенными явлениями в литературе, что на них больше не обращают внимания.
Впрочем, мы только мимоходом коснулись этой стороны сочинений г. Грановского, чтоб, между прочим, в самых условиях внешней их формы указать читателю на одну из весьма уважительных причин, почему литературная производительность автора не простирается далее известных пределов. Кто не имеет цинической привычки являться перед публикой в чем попало, даже в спальном костюме, кто постоянно думает об отделке своих произведений, тот никогда не будет принадлежать к числу литературных борзописцев. Но в настоящем случае нас особенно привлекает самое содержание тех статей, которые в продолжение прошлого года вышли в свет с именем г. Грановского. Желание обменяться с автором некоторыми мыслями и сообщить читателям журнала главные его положения относительно современного состояния исторических знаний побуждает нас остановиться на самых важных пунктах его речи с некоторой подробностью.
Исторический обзор разных воззрений на историю автор начинает весьма издалека: «Вопросы о теоретическом значении истории, о приложении ее уроков к жизни, о средствах, которыми она может достигать своих действительных или извне ей поставленных целей, не новы. Они обращали на себя внимание великих умов древнего мира и составляют неистощимое содержание ученых прений в наше время... По коренным условиям своей жизни Восток не мог принять участия в решении вопросов такого рода. Они никогда не входили в сферу, в которой сосредоточена деятельность восточной мысли. Азиатским народам не чужда врожденная человеку потребность знать свое прошедшее, но их любознательность находит легкое удовлетворение в родословных списках, в простых перечнях событий и в исторических песнях. Содержание этих памятников, представляя обильный, хотя большей частью однообразный, материал стороннему исследователю, не могло на той почве, которой принадлежит по происхождению, уясниться до науки или облечься в формы художественных произведений. Летопись и песня могут, конечно, быть верным отражением народного быта, но они не в состоянии служить орудиями умственного образования. Они живо и любовно напоминают народу прошедшее, не приводя его к ясному сознанию настоящего. Требуя от истории рассказа, а не поучений, Восток довольствовался самыми бедными, хотя соответствующими его общественному развитию, формами исторического предания. Единственное исключение составляют священные книги евреев» (3).
Затем, по естественному порядку, автор переходит к древнему классическому миру, чтоб определить в главных чертах господствовавшее в нем воззрение на историю. Немногие страницы, в которых он характеризует самые видные направления греческих и римских историков, обнимают вместе с тем и существенные черты древнего исторического искусства. Не теряя много слов, автор прямо ставит читателя на ту точку зрения, с которой человек классического мира обсуживал исторические произведения своего времени, и потом показывает особенности эллинского воззрения от позднейшего римского. Воспользуемся для того и другого словами самой речи:
«Греки и римляне смотрели на историю другими глазами, нежели мы. Для них она была более искусством, чем наукой. Такое воззрение естественным образом вытекало из целого порядка вещей и основных начал античной образованности. Задача греческого историка заключалась преимущественно в возбуждении в читателях нравственного чувства или эстетического наслаждения. С этой целью соединялась нередко другая, более положительная. Политические опыты прошедших поколений должны были служить примером и уроком для будущих. „Я буду удовлетворен, говорит Фукидид, если труд мой окажется полезным тому, кто ищет достоверных сведений о прошедшем, а равно и о том, что по ходу дел человеческих может повториться снова". Это практическое направление выразилось еще с большей силой в произведениях римских историков; но в лучшие времена римской литературы оно всегда соединялось с нравственно-эстетическими целями. Тесная связь истории с жизнью, черпавшей из нее многостороннее назидание, сообщала нашей науке важность, которой она, при всех сделанных ею с тех пор успехах, не имеет в настоящее время. Назвав ее наставницей жизни, Цицерон выразил господствовавшее у древних воззрение. Они верили в могущество примеров. Их жизнь, далеко не так сложная, как жизнь новых народов, нередко повторяла одни и те же явления и таким образом открывала возможность прилагать к делу опыты минувшего» (4).
На следующей странице автор продолжает: «При господстве таких направлений произведения древней истории не могли походить на ученые сочинения нового времени, более или менее носящие на себе печать кабинетной работы. Историки Греции и Рима принадлежали преимущественно высшим сословиям общества и часто «писывали такие события, в которых были личными участниками или свидетелями. Они старались сообщить рассказам своим как можно большую красоту и ясность, сделать их доступными для сколь можно большего числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условие значительного успеха. Но под изяществом формы разумелась не одна красота изложения, а художественное, на основании общих законов искусства совершенное построение материалов. История, по словам Лукиана, родственница поэзии, а историк должен походить на ваятеля, который не создает мрамора или металла, но творчески сообщает им прекрасный образ. В теоретических исследованиях о формах, свойственных историческим сочинениям, и об отношении их к искусству вообще высказался склад ума обоих народов классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, римляне — риторической стихии. Последняя, впрочем, была неизбежна вследствие того значения, какое красноречио имело в античной государственной жизни» (5).
Это верное понимание важнейших условий древнего исторического искусства и местных его различий, так ясно и раздельно выработанных в духе двух главных народностей античного мира, едва ли нуждается в подтверждении с нашей стороны. Оно взято из самых исторических памятников и согласно подтверждается всей совокупностью одновременных явлений. Одна из несомненных великих заслуг античного человека состояла именно в том, что он всюду за собой нес облагораживающий элемент искусства — не только в сферу мысли, в свою духовную деятельность, но и в самую жизнь. История впервые облеклась в художественные формы в Греции; до того времени существовал лишь голый исторический материал. Однажды коснувшись его своим живительным дыханием, искусство произвело те неумирающие памятники истории, которые, неизменно переходя из одного поколения в другое, со всех собирают одну дань удивления. Рим постепенно развил у себя другое, более практическое направление, которого целью было приложение уроков прошедшего к настоящему: связь между отдаленными частями одного целого яснее представлялась уму, история стала наставницей жизни; но потребность искусства, художественного изложения сохранила свою прежнюю силу и для римских историков. Выработанное однажды историческим процессом, будет ли то идея, учреждение или только форма, не пропадает и для позднейшего потомства. Римское историческое искусство тоже оставило по себе много прекрасных памятников, составляющих для нас предмет изучения. Думать ли, что эта потребность отжила вместе с тем миром, который видел первое ее проявление, или она существует в той же самой силе и для нашего времени? Г. Грановский, по-видимому, не допускает последнего предположения.
«Необозримая масса накопившихся в течение тысячелетий источников нашей науки (говорит он) может навести страх на самого смелого и предприимчивого исследователя. А между тем эта масса ежедневно увеличивается открытием неизвестных памятников или поступлением в ученый оборот таких, на которые до сих пор не было обращено надлежащего внимания. У всех европейских народов заметно однообразное стремление собрать в одно целое все сохранившиеся свидетельства и предания о своей старице. Великие труды французских бенедиктинцев и отдельных ученых XVII и XVIII века бледнеют пред однородными предприятиями нашего времени. Просвещенное участие правительств дает средства к осуществлению начинаний, неисполнимых силами частных лиц. Одновременно с превосходными изданиями летописей и государственных актов европейских держав предпринимаются в другие части света ученые экспедиции, раскрывающие перед нами тайны погибших цивилизаций и народностей. Бесчисленные монографии доводят до сведения большинства читателей результаты новых открытий и показывают их отношения к предшествовавшему состоянию пауки. Самый круг исторических источников беспрестанно расширяется. Сверх словесных и письменных свидетельств всякого рода, от народной песни до государственной грамоты, он принимает в себя памятники искусства и вообще все произведения человеческой деятельности, характеризующие данное время или народ. Можно без преувеличения сказать, что нет науки, которая не входила бы своими результатами в состав всеобщей истории, имеющей передать все видоизменения и влияния, каким подвергалась земная жизнь человечества. Но изнемогая, с одной стороны, под обременительным богатством материалов, которых одолеть вполне не в силах никакое трудолюбие, историк часто поставлен, с другой стороны, в необходимость заменять собственными предположениями и догадками совершенное отсутствие письменных свидетельств. Ясно, что, при настоящем состоянии истории, она должна отказаться от притязаний на художественную окончепность формы, возможной только при строгой определенности содержания, и стремиться к другой цели, т. е. к приведению разнородных стихий своих под одно единство науки» (6).
В самом деле, никогда еще горизонт истории (или та сфера, к которой обращается мысль современного историка) не был так широк, как в настоящее время. Какая великая разница в этом отношении между человеком древнего мира, для которого почти вся история совмещалась в событиях его отечества, иногда только родного города, и нашими современниками, для любознательности которых открыты исторические могилы всех веков на обоих полушариях! Наука нашего времени задала себе неизмеримую задачу не только усвоить себе все сказания, дошедшие до нас от глухой, отдаленной древности, но и поверить их вновь собственными наблюдениями и дополнить или объяснить на основании позже открытых памятников. Требования ее возрастают по мере открытий, которые безостановочно продолжаются в одно и то же время в разных концах исторического мира. С другой стороны, сфера ее беспрестанно расширяется теми новыми вкладами, которые каждый год доставляются ей из неистощимых архивных запасов. Историческая мысль ищет обнять прошедшую жизнь человечества со всех сторон, проследить ее во всех направлениях; ей нужно знать все элементы, из которых сложилась историческая жизнь того или другого народа: его мифологию, его искусство, литературу, весь быт. Задача, и без того трудная, становится еще многосложнее. Мы совершенно согласны с автором речи, что для истории выросла новая великая потребность — привести свои разнородные стихии под одно единство науки; мы также думаем, что исследование, постоянное, неутомимое и многостороннее исследование, сделалось в наше время одним из самых существенных и необходимых элементов истории, что она должна посвящать ему большую часть своих усилий. Но неужели правда, что она должна отказаться от всех притязаний на художественную оконченность формы? Неужели правда, что элемент искусства для нее более не существует? Позволим себе усомниться в этом. Что однажды открыто гением человечества, то не стирается веками. Требования науки могли увеличиться вследствие расширения ее области, но едва ли утратили для нас свою силу прежние. Идеал художественного исполнения отдалился на значительное расстояние, осуществление его стало в несколько крат труднее; но кто станет утверждать, что он вовсе не существует для историка нашего времени? Во что превратились бы исторические сочинения, которыми так справедливо гордится наш век, если б от них хотели только положительных результатов науки, оставляя в стороне требования искусства? История не обязана в каждом своем произведении непременно обнимать все обилие явлений, подлежащих ее ведению; и в наше время ничто не мешает историческому делателю заняться предпочтительно разработкой той или другой части своего предмета (как это и бывает большей частью); а в таком случае вправе ли он уклониться от художественных требований касательно выполнения? Степени могут быть различны, но общее требование остается неизменно.
Возьмем несколько примеров. Положим, что кто-нибудь из наших современников, литераторов или ученых, взяв летописи, стал бы выписывать из них одно место за другим, сводить их к одним рубрикам и потом выводить из них общие итоги. Неужели такое механическое упражнение заслужило бы в наше время название истории? Или предположим, что темой исторического сочинения избрана жизнь и деятельность какого-нибудь замечательного исторического лица и что автор, собрав весь необходимый материал, разбивает его на несколько частей и рассматривает одного и того же деятеля сначала как семьянина, потом как гражданина, далее как оратора или воина, наконец, как государственного человека, и притом так, что если последняя его деятельность распадается еще на две или на три стороны, то каждую сторону ставит он в отдельности от другой, под особым параграфом. Неужели кто подобную анатомию живой человеческой деятельности принял бы за историческое изображение и нашел бы в ней полное удовлетворение? Мы с своей стороны должны отказать в своем сочувствии даже тому довольно распространенному (особенно со времени Герена (7)) способу исторического изложения, по которому события представляются обыкновенно в двойственном виде: сначала в общем и отвлеченном, а потом в их живой конкретности. Такое изложение мы считаем крайне невыгодным для науки, потому что оно нарушает ее целостность, и не совсем полезным для учащихся, потому что юная мысль их, не одолевая двойственности, остается при ней, так что в их представлении раздвояется и самая история, и иное событие решительно принимается за два, одно от другого отличные. Доказывать ли, что этот способ находится в разладе с художественными требованиями? Но ему недостает самого первого условия искусства, т. е. единства.
Впрочем, не распространяясь много об этом частном вопросе, мы можем сослаться на самого автора речи, особенно на изданные им исторические «Характеристики» (8); из произведений его видно всего менее, чтоб художественная обработка стала делом совершенно посторонним для историка нашего времени.
Практическое свойство истории, приложение уроков ее к жизни, что особенно живо было почувствовано и развито римлянами, по нашему мнению, тоже не пропало втуне. Но послушаем сначала г. Грановского. Вот в каких словах выражает он свою мысль об этом предмете во второй половине речи: «Отказываясь от притязаний на то совершенство формы, которое у народов классического мира было следствием исключительных, несуществующих более условий, современный нам историк не может, однако, отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих читателей. Вопрос о том, какого рода должно быть это влияние, тесно связан с вопросом о пользе истории вообще. Ответ на последний представляет большие трудности, потому что история не принадлежит ни к числу чисто теоретических знаний, имеющих задачей привести в ясность лежащие в глубине нашего духа истины, ни к прикладным, которых польза не требует доказательств. Очевидно, что практическое значение истории у древних, основанное на возможности непосредственного применения ее уроков к жизни, не может иметь места при сложном организме новых обществ. К тому же однообразная игра страстей и заблуждений, искажающих судьбу народов, привела многих к заключению, что исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой. Высказав эту мысль как безусловную истину, Гегель вызвал против нее много не лишенных справедливости возражений. Конечно, ни народы, ни их вожди не поверяют поступков своих с учебниками всеобщей истории и не ищут в ней примеров и указаний для своей деятельности; тем не менее нельзя отрицать в самих массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основании сохранившихся преданий о прошедшем. В лицах, стоящих во главе государствен¬ного управления, этот смысл переходит по необходимости в отчетливое сознание отношений, существующих между прежним и новым порядком вещей. Надобно, с другой стороны, признаться, что всеобщая история в том виде, в каком она обыкновенно излагается, не в состоянии сильно действовать на общественное мнение и быть для него источником прочного назидания. Следует ли из этого заключить, что недостатки, нами отчасти указанные, останутся ее всегдашнею принадлежностью, что еа успехи будут состоять только во внешнем накоплении фактов и что из всех наук одна она утратила способность живого движения и органического развития?» (9).
Припомнив мнение Кетле (10), что общественные факты совершаются даже с большей правильностью, чем физические, автор продолжает: «Слова Кетле о статистике со временем получат приложение и к нашей науке. Ей предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему области. Открытия натуралистов рассеяли предрассудки, затмевавшие взгляд человека на природу: знакомый с ее действительными силами, он перестал приписывать ей несуществующие свойства и не требует от нее невозможных уступок. Уяснение исторических законов приведет к результатам такого же рода. Опо положит конец несбыточным теориям и стремлениям, нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит их противоречие с вечными целями, поставленными человеку Провидением. История сделается в высшем и обширнейшем смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собою взаимодействии» (11).
Итак, г. Грановский не отрицает совершенно практического характера истории и в наше время; он только не приписывает этому направлению особенной важности в настоящем состояния науки, пока еще не открыты постоянные исторические законы и не приведены в ясность вечные цели и пределы, постановленные развитию человеческих обществ Провидением. По его мнению, в более отдаленном будущем предстоит истории великое назначение — быть в самом высоком и обширном смысле слова наставницею как целых народов, так и отдельных лиц. Без всякого сомнения, у истории есть великое будущее; возможность дальнейшего совершенствования остается для нее по-прежнему, несмотря на все блестящие открытия и успехи ее в современности. Но без сравнения с тем, чего еще она может достигнуть впереди, нельзя, кажется нам, не признать ее весьма тесного отношения к действительности и в наше время. Что римлянин делал по инстинктивному внушению своей практической природы, которая любила более обращаться в опытной сфере, чем в идеальной, то стало для нас сознательной, следовательно разумной, необходимостью. Римлянин больше предчувствовал, нежели отчетливо сознавал органическую связь настоящего с прошедшим, когда искал в последнем постоянных и твердых образцов для своей собственной деятельности: современный нам человек, напротив, весь проникнут мыслью, что настоящее состояние, то, что мы называем нашей действительностью, необходимо условлено прошедшим. Древний человек брал у истории одну ее хорошую сторону, хотел от нее примеров, образцов, наставлений: многосторонняя мысль наших современников с одинаковым интересом изучает эпохи упадка общественного благосостояния и нравственности, как и времена процветания человеческих обществ; она еще более проникнута желанием поучаться у прошедшего и, не довольствуясь одной славной стороной истории, ищет себе назидания в самых бедствиях отживших поколений и их слабостях. Прагматизм недаром работал неутомимо в продолжение целого полустолетия: он много содействовал к уяснению связи между самыми отдаленными частями истории и приучил мысль в событиях прошлой жизни искать разгадки многим явлениям современности. Известно, как далеко простиралось влияние так называемой исторической школы, хотя она представляла собой лишь одну сторону этого направления. Конечно, примеры непосредственного применения уроков истории к самой жизни встречаются очень редко; но общее сознание — разумеется, в образованных классах — проникнуто их важностью более, чем когда-нибудь. Не всегда можно указать, каким образом оно переходит в самое действие; но редко нельзя почувствовать его скрытого присутствия при всех почти важнейших событиях. В наше время много ли найдется народов, в судьбах которых не участвовали бы более или менее деятельно их же исторические предания? В римском мире практическое значение истории было, может быть, гораздо виднее, положительнее, но оно ограничивалось лишь отдельными лицами; развитие же целого общества совершалось под иными началами.
Вообще, замечая успехи нового сознания в этом отношении, мы, однако, остаемся при той мысли, что между практическим пониманием истории древних и современными нам требованиями от нее гораздо более тесной связи, нежели как полагает автор речи. Некоторые до сих пор еще довольствуются римским воззрением на историю, не чувствуя ни малейшей потребности расширить свои понятия о предмете и возвысить их до современного уровня. Примеры попадаются в текущей литературе. Нам не забыть особенно забавного упрека, который делали г. Грановскому за то, что он выбрал для одной из своих исторических характеристик Бэкона Веруламского (12). Можно ли было — говорили ему запоздалые современники Веллея Патеркула (13) — взять предметом исторического рассказа историю человека, в жизни которого есть темные стороны, слабости, пятна? Зачем нам знать слабость исторического человека? Давайте нам образцы, достойные подражания, а историческую истину в ее полноте и чистоте оставьте у себя — мы в ней не нуждаемся! Откуда такой голос, как не из римских времен, особенно времен упадка римской литературы, когда лодобные требования всего более были в ходу?..
Гораздо более, чем требования древних относительно истории, занимают автора речи успехи ее в новое время. Заметив совершенно справедливо, что древние не возвышались до созерцания общих судеб человечества, что история существовала у них почти только в монографической форме или в виде эпизодического изложения, г. Грановский, впрочем, далек от мысли, чтоб цель, которая выяснилась для науки лишь в позднейшее время, была уж ею вполне достигнута. Между тем нельзя отрицать, что заслуги новых историков много подвинули ее вперед, что не напрасно накоплялся вместе с веками исторический материал и не втуне работала анализирующая мысль. В чем же состоят эти заслуги, обозначающиеся именами знаменитых европейских историков? Что внесли они нового в развитие науки? Чем содействовали дальнейшему ее совершенствованию или расширению ее области? Вот вопросы, которые естественно представляются любознательности при слове об успехах истории как науки. Автор речи дает на них ответы самого положительного свойства. Первое важное приобретение науки, принадлежащее сполна новому времени, есть строгий исторический метод. Известно, что этим приобретением наука всего более обязана бессмертным трудам Нибура (14), величайшего из современных исследователей. В речи г. Грановского находим краткую, но чрезвычайно верную оценку главнейшей его заслуги истории.
«Величайший историк XIX столетия (говорит автор), Нибур, глубоко чувствовал эти недостатки (в особенности недостаток строгого метода), и никто не может стать на ряду с ним относительно заслуг, оказанных истории; здесь речь идет не о результатах его исследовапий о римской древности, а об усовершенствованном им методе исторической критики и о целом воззрения иа науку. Можно сказать, что критика была до него делом личного таланта, как у древних. Превосходство новых заключалось в большей начитанности и в приобретенном навыке обращаться с огромным материалом. Точных и всем общих приемов не было. Их создал Нибур, работая над римской историей. Заметим, однако, что его постигла участь, нередко бывающая уделом великих людей на пути открытий и изобретений. Колумб унес с собою в могилу убеждение, что он нашел путь к восточному берегу Азии. Мнение Нибура о древнейших памятниках римской истории известно: он полагал, что эти памятники, содержащие в себе самые положительные и достоверные сведения, подвергались изменениям и порче под пером позднейших римских писателей. Задача критики состояла, следовательно, в разложении риторических рассказов Ливия на их простейшие составные части и в восстановлении первобытных источников, Такая цель, очевидно, не могла быть достигнута; но преследуя ее, Нибур нашел настоящие законы исторической критики. Он показал нам, как должно разбирать источники и в какой степени они заслуживают доверия. Влияние его примера пе замедлило обнаружиться. Через тринадцать лет по выходе в свет первого издания „Римской истории" явилась критика новых исторических писателей Ранке, небольшое, но образцовое сочинение, в котором с блестящим успехом приложены к делу уроки великого учителя. В настоящее время Ранке есть главный представитель исторической критики в Германии. Его многочисленные ученики образовали школу, которой деятельность, устремленная преимущественно на разработку средневековых памятников, уже принесла богатые плоды» (15).
Трудно в немногих словах вернее и отчетливее определить сущность заслуги, которая обессмертила имя Нибура в науке. Мы совершенно согласны с г. Грановским, что в деле исторического исследования Нибур остается без совместников. Основанный им метод, по всей справедливости, должен сохранить и его имя. Но нам кажется, что, говоря об усовершенствовании нового исторического метода, не совсем справедливо было бы пройти молчанием и некоторые другие имена. Гиббон, Гизо, Шлоссер, по нашему мнению, также оказали историографии очень важные услуги: они не только умножили значительно капитал науки, пустив в оборот много новых идей, но усвоили ей некоторые новые приемы, до тех пор почти вовсе не употреблявшиеся и лишь в наше время получившие право гражданства во всех образованных литературах. Кому, как не им, история обязана тем, что вышла из тесных рам одностороннего обзора политических событий, что в нее вошли, один за другим, все элементы общественной жизни и важнейшие явления народного быта, что она обняла собою все учреждения, верования, литературу, самую науку—словом, все умственное и нравственное развитие исторических народов? Гиббон первый дал превосходный опыт всестороннего изучения исторического материала (16); за ним Шлоссер показал почти на всем пространстве исторического времени живую связь литературы с историей парода (17); но честь самого широкого приложения тех же начал и вместе самого блистательного исторического опыта, в котором бы действительно показано было взаимодействие всех разнородных элементов общественной жизни как органических частей одного великого целого, бесспорно остается за автором «Истории цивилизации» (18) которого книга до сих пор — настольная для всех занимающихся историей: в ней определились истинные размеры настоящего исторического содержания; она же показала и самый удачный образец построения истории на ее новых, широких основаниях. После Гизо заниматься лишь номенклатурою замечательнейших событий эпохи и их итогами — значит ограничиться только азбукой науки. Если Нибур и его школа особенно способствовали углублению исторического метода, то Гиббон, Шлоссер, Гизо и их последователи займут важное место в истории науки тем, что расширили самые ее основания.
Если мы не ошибаемся, г. Грановский не хотел много распространяться о разных усовершенствованиях исторического метода, потому что спешил перейти к вопросу, более занимающему его: об отношении истории к естествознанию. Так по крайней мере заключаем мы из последних слов его о заслугах автора «Римской истории»:
«Заслуга Нибура не ограничилась, впрочем, введением новых и точных приемов критики. Еще будучи юношею, в частной переписке своей ои высказал несколько смелых и плодотворных мыслей о необходимости дать истории новые, заимствованные из естествоведения основы. Историческое значение человеческих пород не ускользнуло от его внимания, по ему не привелось развить вполне и приложить к делу свои предположения об этом столь важном предмете. Тем не менее его превосходные исследования об этнографии Италии и древнего мира вообще могут служить исходной точкой и образцом для дальнейших трудов такого рода» (19).
Вслед за тем автор переходит к самому вопросу, справедливо видя в требованиях, заключающихся под ним, залог дальнейшего совершенствования науки. Вполне сочувствуем г. Грановскому в его желании поставить на вид просвещенным русским читателям всю важность такой проблемы, как сближение истории с естествознанием, и познакомить их с успехами этого направления. Действительно, это один из самых живых современных вопросов в науке; он проходит как самый чувствительный нерв через всю историю; он напрашивается, когда дело идет об естественных границах той или другой страны исторического мира или о пределах распространения какого угодно исторического племени; к нему же приходится возвращаться всякий раз, как только зайдет речь о нравах и обычаях того или другого народа, его постоянных свойствах, первоначальных верованиях, о начале самых учреждений. Чем дальше подвигается история к своим началам, чем больше расчищается перед нею мрак отдаленных времен, тем больше чувствуется под ногами ее естественная основа — природа и ее условия, потому что история выросла на той же самой почве, на какой и все прочие явления, составляющие собственно предмет естествознания. Наука в самом деле зреет по мере того, как подходит к своей естественной основе и начинает различать, через смену многих поколений, ее постоянно действующее влияние. Последуем же за г. Грановским в его опытных указаниях касательно тех пунктов, в которых столкновение (впрочем, нисколько не враждебное) двух различных отраслей знания замечается наиболее.
Прежде всего надобно различить в вопросе две стороны. Земля есть первое материальное основание, необходимое для всякого исторического действия; но не менее постоянный естественный элемент, неизменно присутствующий при всех исторических переменах страны с решительным влиянием на судьбу ее, есть самое ее народонаселение. Отсюда два рода естественных определений истории. Обе половины вопроса имеют для науки одинаковую важность; но по времени открытия и относительно большей зрелости преимущество остается за первою. В этом порядке приведем мы из речи г. Грановского относящиеся сюда места ее:
«Еще древние заметили (говорит автор) решительное влияние географических условий, климата и природных определений вообще на судьбу народов. Монтескье довел эту мысль до такой крайности, что принес ей в жертву самостоятельную деятельность духа. Несмотря на то, отношение человека к занимаемой им почве и их взаимное действие друг на друга еще никогда не были удовлетворительным образом объяснены. Великое творение Карла Риттера, принимающего землю за „храмину, устроенную Провидением для воспитания рода человеческого", проложило, конечно, новые пути историкам нашего времени; но многие ли воспользовались этими трудными путями и предпочли их прежним, пробитым бесчисленными предшественниками тропинкам? Вошедший теперь в употребление обычай снабжать исторические сочинения географическими введениями, заключающими в себе характеристику театра событий, показывает только, что значение и успехи сравнительного землеведения обратили на себя внимание историков и заставили их изменить несколько форму своих произведений. Самое содержание немного выиграло от этого нововведения. Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с спокойною совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как будто действие природы на человека не есть постоянное, как будто оно не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности? Нам еще далеко не известны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств» (20).
В таком виде представляется современное состояние той части вопроса, которая относится к земле как первой необходимой основе всего исторического развития. Очевидно, г. Грановский очень мало удовлетворен им: требование поставлено, всеми признано, но наука еще не может похвалиться, чтоб много оттого выиграла. Успех виден более в форме, нежели в самом содержании. Без всякого сомнения, внесение в историю этого нового элемента далеко еще не доставило всех ожидаемых от него результатов, и географические введения действительно часто имеют вид внешних приставок, стороннего приложения; но не будет ли слишком взыскательно с нашей стороны, если именно от недостатка формы мы заключим в том же смысле и о самом содержании? Дело в том, что все в наше время одинаково проникнуты важностью географических определений в истории и (всякий старается, по мере своих средств и таланта, ввести их в свое историческое изложение, но лишь весьма немногим удавалось до сих пор слить их в одно с самою историей: большею же частью принято отделывать за один раз географическую часть, имея в виду дальнейшую историю, чтоб потом уж перейти к собственно так называемому историческому содержанию. Ясно, что форма представляет много неудовлетворительного, что история еще не овладела ею, как бы следовало, сообразно с распространением своего объема. Впрочем, едва ли справедливо было бы требовать от истории, чтоб она на всем своем движении через данные моменты равно неослабно следила за географическими влияниями. Поставить такое требование значило бы, по нашему мнению, хотеть от науки, чтоб она постоянно преследовала второстепенный для нее интерес с некоторым пожертвованием своего собственного. Правда, действие природы на человека постоянно; но степени этого действия, смотря по времени и ходу исторического развития, весьма различны, и мы очень сомневаемся, чтоб во всех моментах истории нужно было придавать ему равную значительность. Есть время в жизни каждого народа, когда он весь почти зависит от внешних определений, когда природа, климат, почва не только кладут свою печать на его внешний быт, но и условливают собою его политическую постановку в отношении к другим пародам; бывает и другое время, обыкновенно следующее за первым, когда известное племя людей, определившись под самым сильным влиянием естественных условий, устанавливается физически и нравственно в известных границах и начинает в свою очередь действовать на природу культурой, образованием и налагает на нее свою собственную печать. Первый момент не всегда даже доступен историческому знанию; второй есть в настоящем значении слова историческое время; но здесь внимание историка естественно должно быть занято гораздо более обратным действием человека на природу, усовершенствованием его искусственных средств, чем постепенно ослабевающим влиянием на него данной местности. Нет никакого спора, что Древний Рим своим политическим значением среди первоначальных итальянских народов прежде всего обязан своему счастливому и как бы предназначенному местному положению. Стоит только взглянуть с албанских высот или хотя от Фраскати на эти царственные холмы, подножите столицы древнего мира, которые одни останавливают на себе взор среди необъятной равнины, и видеть почти со всех сторон сбегающие в нее отлогости высоких гор, которые обстали ее амфитеатром, чтоб понять непреодолимое стремление окрестных горных племен к этой местности и их упорную борьбу за обладание ею. Тот народ, который после долгих усилий силою или ловкостью, или тем и другим вместе, удерживал за собой этот повелительный пост, получал в нем верный залог своего будущего господства над всей окрестной страной. Это понятно; простой взгляд на Рим вместе с его далекими окрестностями, действительно, многое объясняет в его первоначальной истории. Влияние местных условий не раз может быть указано и потом, когда Рим далеко перерос всех своих сверстников, всего же более, когда, перейдя естественные пределы своих первых завоеваний, внес свое оружие в самое сердце Востока. Но много ли помогут природные условия объяснить тайну гражданской доблести римлян, их внутреннего устройства, наконец, самого блистательного периода в истории их политического могущества? Пребывание Цезаря в Галлии (а не в иной провинции) перед началом знаменитого междоусобия, бесспорно, обстоятельство великой важности: оно много объясняет успех будущего диктатора; но что и Галлия, если б не было самого Цезаря? Вообще мы полагаем, что действие естественных определений на историю далеко не одинаково во всех ее моментах и что рано или поздно приходит время, когда оно из преобладающего становится второстепенным и само подчиняется иным влияниям. История народа не имела бы большого достоинства, если б для нее никогда не наступало это время. Угадать и определить начало его в ровном ходе событий — немаловажная заслуга со стороны историка.
Поэтому мы позволяем себе не вполне соглашаться с словами академика Бера, которые автор речи приводит для подтверждения своей мысли о постоянном и неослабном действии физических причин на исторические явления. Сущность их состоит в том, что, «когда земная ось получила свое наклонение, вода отделилась от суши, поднялись хребты гор и отделили друг от друга страны, судьба человеческого рода была определена уже наперед, и что всемирная история есть не что иное, как осуществление этой предопределенной участи» (21). Но куда же мы денем нравственные влияния? Неужели отнесем их к одному разряду с теми, которые двигали грубыми, необразованными массами в самом начале истории? Почтенный автор приводимого отрывка по-видимому не придает им особого значения в истории. «Ход всемирной истории», читаем мы в начале того же отрывка, «определяется внешними физическими условиями. Влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно. Они всегда почти приводили только в исполнение то, что уже было подготовлено и так или иначе, а должно было совершиться» (22). Неоспоримо, что всякое великое историческое явление приготовляется веками. Но неужели в этой подготовке участвуют только одни физические условия и в сравнении с ними влияние отдельных личностей оказывается совершенно ничтожно. Нам очень любопытно было бы видеть, как, например, объяснили бы нам историю быстрого возвышения Пруссии в XVIII веке без той великой роли, которая принадлежала лично Фридриху II; нам любопытно также было бы знать, как одни физические условия могли произвести такие явления, как крестовые походы, или такие учреждения, как рыцарство, и пр. Кажется, довольно примеров, чтоб оправдать наши сомнения в правильности изложенного выше воззрения на историю.
Приведем здесь, кстати, простые, но выразительные слова умного датского ботаника, которому так много обязана география растений и который вообще так хорошо освоился с природой:
«Человек есть часть природы: она на пего действует, он подчиняется ее законам; но в то же время человек находится как бы и вне природы и потому может, без сравнения со всеми другими живыми тварями, действовать в свою очередь и на нее, преобразовать ее форму, даже в известной степени господствовать над нею и налагать на нее свои законы. Культура, духовное развитие — вот те средства, при помощи которых человек мало-помалу высвобождается из-под власти природы и, недавний раб ее, подчиняет ее своему собственному влиянию» (23).
Любопытно также выслушать его мнение о степени влияния внешней природы на народный характер в особенности. Этот частный вопрос лучше всего может показать, как смотрит автор на спорный предмет вообще.
«Зависимость народного характера от окружающей природы (говорит он) согласно принимается почти всеми историками, философами, естествоиспытателями и поэтами. Я, впрочем, позволяю себе думать, что все они сильно ошибаются, и утверждаю, что заключение сделало с излишней поспешностью, которая едва ли была бы допущена во всякой другой области естествознания, где принято употреблять сравнительный метод для выводов. Я вовсе не хочу этим сказать, что отрицаю всякое влияние климата, почвы и других природных условий на народный характер: напротив, оно для меня не подлежит никакому сомнению там, где силы природы берут решительный перевес над человеческими средствами, которые по необходимости должны уступить им в неравной борьбе, как, например, в полярных странах или в африканской степи; но я имею важные причины утверждать, что вообще это влияние незначительно».—«По ту и другую сторону Канала (24) (на юг и на север от него) воздух одинаково туманен и ветры дуют с равной силой; по обеим сторонам одни и те же природные условия, те же незначительные известковые возвышения, та же растительность: и, однако, две нации, для которых Канал служит разделительной чертой, как нельзя более различны между собой, и народонаселение северного берега Капала не менее английское, как и то, которое живет во внутренности страны; с своей стороны обитатель южного берега есть столько же француз, сколько и прочие его соотечественники. Почти так же сильна противоположность между французским и немецким национальным характером, несмотря на то что ближайшие страны к границе, как на запад, так и на восток от нее, представляют те же природные условия: севернее — по обоим сторонам лежат равнины, южнее — поднимаются горы средней высоты с плодоносными полями и виноградниками. Швейцария на высотах своих гор и в глубине своих долин питает три совершенно различные народности. Правда, что племенные различия очень часто совпадают здесь с разделом самых вод, но нельзя сказать, чтоб тому же соответствовали разделения гор и долин по их естественным свойствам; случается даже, как, например, в Валлисе (25), что в одной долине живут два различных племени», и т. д.
«Если бы природные условия (продолжает тот же автор) оказывали сильное влияние, один и тот же народ не мог бы жить под различными климатическими отношениями, не потерпев значительного изменения в своем характере. Но и этого не видим в действительности. Итальянец, живя среди горной альпийской природы, на самых высоких обитаемых местах, в весьма суровом климате, где уже прекращается земледелие, тем не менее остается итальянцем. Также мало теряют свой национальный тип итальянские обитатели Альпов средней высоты и тех частей Аппенинов, которых природа гораздо более подходит к северно-европейской, чем к южной. Тиролец, тоже обитатель высоких Альпов, такой же немец, как и житель берегов Немецкого моря, которого земля лежит несколько ниже морской поворхности, и если существуют между ними некоторые провинциальные отличия — то еще никак нельзя доказать, чтоб они зависели от действия климата; во всяком случае, немецкий тиролец гораздо ближе к северному жителю Германии, чем к своему ближайшему соседу, жителю итальянского Тироля».—«Англичанин равно остается англичанином и в знойной долине Гангеса, и в возвышенных долинах Гималая, хотя и там и здесь он должен жить под такими природными условиями, которые но имеют ничего общего с его родиной. В Новой Голландии он же окружен такой природой, которая, особенно по отношению к животному и растительному царству, образует около него совершенно новый мир. Голландцы, променявшие низменные и тучные земли своего отечества вместе с его сырым и туманным воздухом на сухие, песчаные плоскости и такие же возвышения капской колонии с ее прозрачным воздухом и безоблачным небом, не сделались оттого ни кафрами, ни готтентотами, но остались все томи же голландцами. Испанец сохранил свой национальный характер не только на высоких равнинах Мехики, которая, при многих сходных чертах с Кастилией, отличается впрочем, от нее и более теплым климатом и другими местными особенностями, но он остается тем же испанцем равно на перуанской возвышенности и на нездоровой панамской местности, как и на острове Кубе или на островах Филиппинских», и т. д.— «Нет ничего обыкновенное, как ссылки на горячую кровь южных европейских народов, которая, говорят, условливается свойством самого климата, так что сильные взрывы страстей должны казаться неминуемым следствием того же местного влияния. Отсюда, между прочим, объясняют обычай кровавой мести у корсиканцев. Между тем индиец (индус), который живет в климате несравненно более жарком, чем итальянец, выставляется обыкновенно за образец человеческого терпения и покорности своей судьбе; турок же, переселившийся в Европу, из других более теплых стран, положительно известен в ней своею флегмою! Неужели в голландце более страстности, чем в жителе Норвегии, Шотландии, и откуда бы взялась в древнее время у скандинавов столько известная их мстительность, перешедшая потом вместе с ними и в холодную Исландию?»
Все это простые и доступные почти каждому наблюдения, приводящие по крайней мере к тому общему заключению, что из всех естественных определений самое сильное и твердое то, которое принадлежит самой расе или породе людей.
Обратимся же ко второй половине нашего вопроса. В последнее время она приобрела особенную важность. Требование поставлено, и сила его чувствуется всюду. В «породах» наконец признай один из самых постоянных действующих элементов истории; и тот, кто еще не почувствовал его значительности, имеет полное право хвалиться весьма древними понятиями о предмете. Г. Грановскому принадлежит честь первого в русской литературе указания на это новое направление исторических знаний. Происхождение и распространение вопроса он излагает уже в своей речи:
«Около того же времени (когда Нибур высказывал свои мысли о необходимости новых основ для истории) вопрос о породах начал занимать пытливые умы вне Германии. Фориель, братья Тьерри и другие ученые старались объяснить отношения различных народностей, преемственно господствовавших на почве Франции и Англии. Они озарили ярким светом начало средневековых народов и обществ, но не решились переступить чрез обычные грани исторических исследований и оставили в стороне физиологические признаки тех пород, которых исторические особенности были ими тщательно определены. Надобно было, чтобы натуралист подал наконец голос против такого стеснения нашей науки и указал на связь ее с физиологией. В 1829 году Эдвардс (W. F. Edwards) издал письмо свое к Амедею Тьерри о физиологических признаках человеческих пород в отношении их к истории. Это письмо содержит в себе полное, из сферы естественных наук почерпнутое, оправдание выводов, к которым пришли другими путями и совершенно независимо один от другого Нибур и Амедей Тьерри. Снимая с рассеянных по лицу Западной Европы галло-кимрских племен их новые имена и доказывая живучесть пород, Эдвардс излагает правила для будущих изысканий. Высказанные им по этому поводу мысли были приняты с общим одобрением, но до сих пор еще не принесли желаемой пользы» (26).
Замечательно, что философия, с свойственным ей чутьем п потребностью точных определений, еще прежде самой истории почувствовала необходимость решения вопроса о породах. Указываем на Канта, который два раза возвращался к этому предмету, стараясь установить в твердых пределах самое понятие (27). Ему действительно удалось отыскать некоторые существенные признаки того, что должно быть называемо породою, и отличить случайные оттенки, которые ошибочно вносятся в самое содержание понятия. Это прекрасное начало, впрочем, не проникло в историю, которой могло принести всего более пользы, и в самой философии не нашло себе продолжателей. Тому противилось особенно идеальное ее направление, после Канта сделавшееся господствующим в Германии. Истории надобно было еще пройти много стадий, чтоб само собою достигнуть того пункта, с которого важность вопроса становится доступна опытным наблюдениям. Ей нужно было наперед, с помощью философии, долго всматриваться в первые основания исторических обществ, чтоб различить в них разные народные особи и усмотреть необходимость правильного их распределения между собою. Тогда только начались опыты распознавания человеческих пород по историческим приметам. Но уж эти первые показали шаткость различения пород на основании чисто исторических указаний. Сколько трудов, тонких изысканий и самых остроумных соображений потрачено на одних пелазгов, а пелазги до сих пор не поддаются точному определению! Сколько раз потом подходили к историческому вопросу о кимрах, стараясь определить их происхождение и отношения к другим современным племенам, в особенности к кельтическому, а между тем недостаток положительных результатов о них чувствуется по-прежнему, если ограничиться одними чисто историческими исследованиями! Очевидно, что в решении подобных вопросов истории необходима посторонняя помощь; мало археологии и филологии — нужен еще опытный глаз физиолога. Поэтому нельзя не порадоваться той готовности, с которой физиология, в лице В. Ф. Эдвардса, предложила свои услуги истории: в этой решимости ученого-естествоиспытателя содействовать своими средствами решению исторических вопросов сказалась живая связь, соединяющая все науки. Опыт Эдвардса не единственный в своем роде: пример, им показанный, начинает уже в разных странах просвещенного мира находить себе весьма деятельных последователей; но наука имеет право дорожить им в особенности как первым разительным применением опытных физиологических знаний к вопросам исторического свойства.
Г. Грановский принял на себя труд не только указать русской публике это важное нововведение и ожидаемые от него благотворные результаты, по и передать сполна в точно русском переводе самую статью Эдвардса, чтобы читатель сам мог судить о достоинстве нового метода и доставляемых им выгодах. Некоторые отмены от мысли естествоиспытателя и многие существенные дополнения и пояснения переводчик изложил в собственных замечаниях, сопровождающих статью в виде особого приложения. То и другое дело равно обязывают нас к благодарности: заслуга не видная, не громкая, но лучше всех пышных слов свидетельствующая о несомненном желании автора речи расширить круг знаний русских читателей действительными приобретениями науки. Статья Эдвардса, как известно, написана по поводу книги А. Тьерри об истории галлов и содержит в себе, так сказать, физиологическую поверку главных его положений относительно галльской породы. А. Тьерри, на основании чисто исторических указаний, различает в этой породе две главные отрасли: собственно галльскую (в Восточной и Южной Галлии, потом в Северной и частью Средней Италии и, наконец, на Севере и Западе Британии) и кимрскую (в Северной и Западной Галлии, также в Восточной и Южной Британии).
К подобным заключениям приходили и другие исследователи; но какое ручательство, что эти выводы не искусственные? Какими осязательными признаками можно доказать, что они взяты из самой природы соответствующих им явлений? Потребность более твердого убеждения побудила Эдвардса обозреть большую часть стран, с именем которых соединены исторические воспоминания о галлах или Кимрах, чтобы сделать непосредственные наблюдения над самым их народонаселением и потом составить свои собственные заключения. С этой целью ученый физиолог везде на своем пути присматривался к внешнему виду местных жителей и старался уловить их особенный «тип»—так называет он совокупность форм и очертаний, полагая не без основания, что каждая порода должна иметь в этом отношении свои характеристические особенности, и считая все прочие оттенки, как-то: цвет кожи, волосы, рост, преходящими, следовательно, более или менее случайными. Опытный глаз физиолога скоро помог ему отличить два резко обозначенных типа. Признаками одного служит голова более круглая, чем овальная, черты округленные и рост средний; особенность другого составляют продолговатая голова, высокий и широкий лоб, нос, загнутый концом книзу с приподнятыми ноздрями, подбородок, сильно выдающийся, и высокий рост. Последний очерк несколько напоминает известное всем изображение Данта. Неутомимому путешественнику действительно удалось проследить этот тип на всем пути от Бургундии до Тосканы, отыскать его потом в самом Риме, встретить несколько раз в Венеции, во множестве — около Милана и везде почти проверить на статуях, бюстах и портретах исторических лиц, которыми наполнены итальянские художественные галереи. Что касается до первого типа, он встречается на тех же пространствах еще в большем обилии. В Бургундии, например, на его стороне остается решительный перевес. То же самое в Дофине и Савойе до Мон-Сени. Переправясь потом в Италию, путешественник отличал те же самые приметы по всей дороге от Флоренции к Риму, в Перуджии, Сполето и пр. В Риме он еще раз узнал этот тип, внимательно всматриваясь в бюсты Августа, Секста Помпея, Тиберия, Германика, Клавдия, Нерона, Тита. Далее на юг следы его исчезают лишь по мере приближения к Неаполю.
На основании всех этих наблюдений Эдвардс, во-первых, пришел к весьма логическому заключению о живучести пород. Разительное сходство живых лиц со старыми историческими изображениями послужило ему несомненным доказательством, что типы сохраняются, несмотря на все внешние перемены в судьбе народа или целого племени. Соображая далее свои наблюдения с историческими известиями, он убедился, что два найденных им типа вполне соответствуют известному разделению галльской породы на две большие отрасли и что первый из них, отличающий большинство народонаселения в Юго-Восточной Франции, принадлежит потомкам галлов, а второй, более редкий в тех же странах, но довольно распространенный в Северной и частью Средней Италии, есть остаток той отрасли, которая в истории известна под именем кимров. Таким образом, исторические предположения о двух видах одной и той же породы нашли себе в наблюдениях в выводах физиолога блистательное подтверждение. Наука выиграла не только в твердости своих положений, но и самой их определенности; с помощью наблюдений Эдвардса гораздо яснее обозначается относительная граница двух отраслей большого галльского племени. На пути своем он имел также случай заметить промежуточные или переходные типы, образовавшиеся под влиянием двух главных.
Кроме специальных выводов, письмо Эдвардса богато еще многими общими положениями, которые все касаются столько важных и трудных вопросов о сохранении первоначальных типов, о смешении пород, о влиянии его на видоизменения внешних форм, о том, в чем должно искать типических признаков породы, и т. п. Не говорим о дальнейших наблюдениях того же ученого над поляками, чехами, мадьярами (которых он имел случай видеть в австрийском войске в Италии) с целью отыскать типические признаки их относительных пород: эти наблюдения не могли дать вполне удовлетворительных результатов, потому что были произведены лишь над небольшим числом отдельных лиц, представлявших собою пеструю смесь разных национальностей, причем постороннему наблюдателю едва ли можно было распределить их как следует и избежать разных ошибок. За исключением, впрочем, этого сравнительно более слабого отдела, статья Эдвардса представляет одно из тех замечательных явлений, которые, как внезапно упавший луч света, вдруг освещают целый ряд темных и запутанных вопросов и возвышают общую достоверность научных исследований.
Нельзя сомневаться в плодотворности такого направления. Но вот в каких словах отзывается г. Грановский (мы опять возвращаемся к его речи) о дальнейших его успехах:
«В Англии, Америке и Франции существуют ученые этнографические общества, которых труды подвинули вперед антропологию, но не обнаружили надлежащего влияния на историю. Уступки, сделанные историками новым требованиям, были большею частью внешние. Дальнейшее упорство, впрочем, невозможно, и история по необходимости должна выступить из круга наук филолого-юридических на обширное поприще естественных паук. Ей нельзя долее уклоняться от участия в решении вопросов, с которыми связаны не только тайны прошедшего, но и доступное человеку понимание будущего. Действуя заодно с антропологией, она должна обозначить границы, до которых достигали в развитии своем великие породы человечества, и показать нам их отличительные, данные природою и проявленные в движении событий свойства. Каков бы пи был окончательный вывод этих исследований, имеющих, быть может, обнаружить историческое бессилие целых пород, не призванных к благород-нейшим формам гражданской жизни, он принесет несомненную пользу науке, ибо сообщит ей большую положительность и точность» (28).
И здесь недовольство автора успехами пового направления в науке принимает вид упрека, который относится прямо к истории. Г. Грановский находит, что историки сделали недовольно уступок новым требованиям, и даже прямо приписывает их упорству, что история до сих пор не могла выступить из круга наук фплолого-юридических. Согласны, что требования остаются несравненно выше того, что до сего времени сделано для их удовлетворения: в той или другой мере этот недостаток можно указать почти в каждой отрасли знания. Но неужели надобно слагать всю вину на упорство историков? Неужели главная причина неуспеха заключается в том, что до сих пор история отвечала на требования только внешними уступками, что она, так сказать, не хотела дать у себя довольно места новым открытиям? Если б дело состояло лишь в допущении сторонних открытий, подобных тем, которыми наука обязана физиологическим наблюдениям Эдвардса, и история упорно отказывалась воспользоваться ими для своих собственных целей, упрек был бы вполне заслуженный. Кто, однако, не знает, что число положительных выводов, достигнутых путем естествознания в сфере исторических вопросов, до сих пор еще очень ограниченно, что многие из этих вопросов еще вовсе не тронуты с той стороны, которая обращена к естествознанию, а другие, несмотря даже на помощь опытных естествоиспытателей, до сего времени весьма мало подвинулись вперед? Укажем для примера на вопрос об американских породах или исконных жителях Америки, ее аборигенах. История, если б и хотела, не могла бы воспользоваться подобными исследованиями, пока они еще сами не созрели до определенных результатов. Упорство историков, упоминаемое автором речи, очевидно, имеет для него другое значение. Стало быть, по его мнению, вина истории состоит в том, что она сама до сих пор не принимала деятельного участия в решении подобных вопросов, «с которыми (как сказано в речи) связаны не только тайны прошедшего, но доступное человеку понимание будущего» (29).
Но и в этом смысле мы не возьмем на себя разделить упрек, делаемый г. Грановским истории. Утверждать безусловно, будто история доселе уклонялась от решения вопросов такого рода, было бы с нашей стороны вопиющей несправедливостью: против нас была бы целая обширная отрасль исторической литературы, посвященная преимущественно исследованиям относительно происхождения различных народов как древнего, так и нового мира, их родовых признаков, мест первоначального пребывания, переселений и взаимных соотношений. Сколько исследований предпринято и совершено было в разное время о пелазгах и их расселениях, о дорянах, об итальянских аборигенах, этрусках, иберах, гуннах, и пр. и пр.! Сколько еще предпринимается их вновь в каждой почти части образованного мира! Но эти исследования — в собственном смысле исторические: они опираются на исторические известия, они произведены лишь при помощи филологии. Итак, автор речи винит историю в том, что она до сих пор решала свои вопросы чисто исторически. Он желал бы, чтоб история, вышедши из тесного круга собственно исторического метода, вступила сама на поприще естественных наук; он хотел бы от историка нашего времени физиологических приемов — требование, вполне достойное того высокого идеала, который г. Грановский постоянно имеет в виду, говоря о современном состоянии науки. Но какие средства удовлетворить ему? Как заставить историю сделаться не тем, что она есть? Как хотеть от нее, чтоб она усвоила себе приемы, ей несвойственные? Надобно по крайней мере, чтоб она прошла наперед очень долгую школу и чтоб историк действительно владел опытным глазом естествоиспытателя. Подобное требование можно ли сделать общим, не исключая из внешней области науки многих, весьма полезных делателей? Хронологическая часть истории постоянно нуждается в пособии астрономических знаний; но вытекает ли отсюда общее требование для истории в собственном смысле? С своей стороны, мы остаемся при том мнении, что наука, несомненно, много выиграет от успехов нового направления, но что успех его не зависит непосредственно от самой истории. Пусть естествоиспытатели разрабатывают, по примеру французского физиолога, широкую тему происхождения пород и их типических признаков: история наверное не откажется воспользоваться результатами их исследований или наблюдений. Идя к той же цели, но своим собственным путем, она будет иметь в них верное средство для поверки тех положений, которых достигает в той же самой сфере своими средствами.
Потом мы считаем нужным отделить две различные части задачи, которые с первого взгляда представляются как одно большое требование, простирающееся на все время исторического развития. Так, читаем в речи: «Действуя заодно с антропологией, история должна обозначить границы, до которых достигали в развитии своем великие породы человечества, и показать нам их отличительные, данные природою и проявленные в движении событий свойства» (30). По нашему мнению, не совсем одно и то же — распознать породы на местах их первоначального пребывания п дальнейшего расселения с теми отличительными свойствами, которые вложила в каждую из них особенная ее природа, и уловить то постоянные черты их нравственной физиономии, которые проявились в движении событий, в истории. Это — историческая антропология и психология, слитые вместе. Конечно, последняя из них необходимо предполагает первую; между ними проходит очень тесная связь; но, слипая их в одно, мы смешаем природу и историю. Объяснимся примером. В старом Провансе,южнее Авиньйона,лежит город Арль. Кому случалось проезжать через него, тот наверное поражен был видом тамошних женщин. Странно в самом деле: среди народонаселения, принадлежавшего нашей современности и усвоившего себе ее цивилизацию,встретить женские фигуры, которые своим внешним видом, станом, поступью и пластическими движениями невольно возвращают вашу мысль к древности! Вдруг вы видите перед собою совершенно античную фигуру (кроме, впрочем, некоторых особенностей костюма), с ее классическими позами, спокойными и в то же время изящными телодвижениями. Другое дело в Италии; но здесь, куда переносишься лишь в несколько дней из центра Франции, нельзя не остановиться перед таким неожиданным явлением. И вот мысль ваша вдруг перенесена в отдаленную древность: вам как будто открылись глаза не на ближайшую историю арльского народонаселения, а через целый ряд веков на первые его начала: там, на самой первой странице истории края, имеет особенную важность ваше наблюдение. Неподалеку отсюда, в Авиньоне, поразит вас другое явление: это старая женщина, которая, показывая в стенах бывшего папского дворца кровавые следы неистовств девяностых годов (31), с каким-то диким остервенением рассказывает о несчастных жертвах, погибших во время авиньйонских убийств. Тут уж говорит не природа, а история: перед вами остаток ее ужасных страстей, и одна природа еще не даст вам ключа к объяснению подобных явлений. Вообще, чем дальше от колыбели народа, тем больше проступает на его нравственном облике историческое влияние, нарастающее от времени на первой или исторической основе. Уловить первобытные черты той пли другой породы, связанные с самой ее организацией,— вот одна из самых первых задач историка. Она следует непосредственно за вопросом о влиянии географических или местных условий на быт и историю народа. Здесь только может быть речь о свойствах, «данных природою» в собственном смысле, здесь же сохраняют они и свое преобладающее значение. Арабы имели свой определенный характер, условленный местностью и самою их природою, прежде чем известный религиозный переворот вдвинул их в пределы исторического мира; норманы впервые подступают к истории также готовыми людьми: не по внешнему только виду, но и по самым свойствам их нельзя не отличить от других современных удальцов. Подобные свойства можнобы назвать доисторическими: история застает их уже готовыми, сложившимися. Определясь однажды, они держатся долго, нередко дают чувствовать себя и в исторической жизни народа; но, встречая потом знакомые черты, историк видит в них лишь поверку и подтверждение прежде сделанных наблюдений. Самые существенные из них ие изменяются более ни под какими широтами: европеец переселяется из Старого Света в Новый, живет в лице нескольких, одно другое сменяющих поколений, а между тем природа его продолжает действовать так, как если б она все еще находилась под прежними местными определениями. В таком смысле видоизменяем мы вышеприведенное мнение датского ботаника (32) о влиянии природы на народный характер: как скоро под теми или другими определениями установилась порода и ее индивидуальный характер, внешнее влияние перестает быть значительным и производит разве только случайные перемены.
Есть целые народы, которым, кажется, суждено жить и умереть с теми свойствами, с какими история узнала их впервые. Проходят века, даже тысячелетия, а они одинаково остаются верны первоначальным инстинктам, вложенным в них природою. Киргиз и американский индеец, один в Старом, другой в Новом Свете, видели около себя много переворотов, а сами остались им чужды: истории еще не удалось наложить на них никакой видимой печати. Что же раскрывается в их существовании в течение каждого столетия и при жизни каждого нового поколения, как не те же самые свойства, которые впервые произошли вместе с их породами? Какая разница, когда для народа начинается история в настоящем значении слова и вносит в его жизнь богатство своих определений! События совершают свойственные им движения, формы сменяются одна другою, и каждая из них, как особая фаза в развитии, оставляет свой глубокий след не только в воображении народа, но и в самых его наклонностях и нравах. В исторической жизни народа ни одно великое событие не проходит для него даром: внимательно всматриваясь в те черты, которые в своей сложности составляют общую народную физиономию, всегда почти найдешь в них отпечаток того, что народ испытал или прожил в своей истории. Чем однажды было глубоко поражено народное воображение, то никогда не изглаживается из него совершенно, а разве только от времени и новых событий теряется свежесть первого впечатления. Туземный обитатель старой Индии до сих пор остается живым памятником своей давно минувшей истории; даже европейская цивилизация бессильна поколебать в нем те убеждения, которые сложились в одну отдаленную эпоху его исторической жизни и потом как будто срослись с самою его природою. Гораздо ближе к нам — католицизм, как историческое явление, также положил свою неизгладимую печать на целые народы. Поражающая из-за угла итальянская мстительность, образовавшись под влиянием чисто исторических обстоятельств, пережила многие столетия. Те оригинальные черты испанского национального духа, которые сложились особенно в борьбе испанцев с маврами, до сего времени живут в нравах туземных жителей. Большая подвижность европейских пород, правда, условливает собою возможность новых видоизменений без ущерба для того, что уж вошло однажды в народный нрав; но отсюда вытекает лишь то необходимое следствие, что исторически образовавшийся характер европейского народа обыкновенно отличается большею сложностью, чем неподвижные нравы жителей Востока, хотя бы в образовании их тоже участвовала история. Там же, где так глубоко было действие католицизма, одновременно с ним действовали еще феодализм и потом рыцарство, и никто, конечно, не станет отрицать собственно им принадлежащего влияния на нравы европейского общества. И теперь еще не сгладилась разделяющая черта, проведенная ими в средине европейского народонаселения. Новое время равным образом вносит в образование народных индивидуальностей свои особые определения. Продолжается то же самое действие, с тою разницею, что новые определения получают значение более местное. Довольно указать на германский протестантизм в отличие его от английского пуританизма. Последний развил совершенно новую сторону в английском национальном характере, которая пережила его самого. Эпоха Ришелье в некоторых отношениях перевоспитала Францию: великий политик не только открыл новые пути государству, но и положил начало важному изменению в самых нравах народа. Говорить ли о том, что иногда достаточно бывает одного периода блестящей завоевательной деятельности, чтобы сделать войнолюбие господствующей страстью народа на долгое время? Если, несмотря на успехи человеческого образования, народные особенности не только не стираются, но еще усиливаются новыми оттенками с каждой великой исторической эпохой, то причины надобно искать именно в этом почти не прекращающемся действии, которое оказывает история каждого народа на дальнейшее развитие и определение его же характера. Природа вырабатывает из себя те свойства, которыми отличаются одна от другой большие человеческие породы; индивидуальные же особенности народных характеров есть уж дело истории, которая продолжает строить на данной основе, и они накопляются постепенно в течение исторического времени.
«Кому не случалось (говорит тот же наблюдательный автор, иа которого мы уж ссылались прежде) слышать столь распространенное мнение, что культура сглаживает народные особенности, даже совершенно уничтожает их? Я же с своей стороны предложу только один вопрос: у трех образованнейших народов — англичан, французов и немцев — было ли когда столько особенностей, которыми они отличаются один от другого, как в наше время? Уж конечно, между иными необразованными народами нельзя найти таких резких оттенков. Обыкновенно нас обманывает наружное, случайное сходство в выборе пищи или ее употреблении, в костюме и разных внешних обычаях. Внутренние же отношения, нравственные свойства беспрестанно вновь развиваются культурой, а своеобразное развитие необходимо ведет за собой и новые отличия. О целых народах можно сказать то же самое, что и об отдельных лицах, т. е. что образованные гораздо более отличаются между собой, чем простые, необразованные».
Автор приведенного отрывка говорит о культуре: кто же захочет отделять культуру от истории? Но обратимся к нашему вопросу. Если не ошибаемся, то в наше время рядом с требованием естественной, или физиологической, основы для истории выросла для нее другая важная задача — определить из исторических событий данного времени существенные черты народного характера, как проявились они в самом действии, постепенно образуясь под влиянием исторических обстоятельств. Когда говорим так, воображаем себе не мечтательный идеал, но имеем и виду действительные образцы (хотя, конечно, в весьма ограниченном числе), которые ири иных целях дают самые удовлетворительные результаты и в показанном нами смысле. Задача, с успехом решаемая в английской истории, не менее приложима к Франции, Германии и другим странам. Какой богатый материал для исторического изучения народного характера могла бы дать исследователю одна эпоха гугенотских войн! Сколько несчастных склонностей и привычек вынесла нация из этой кровавой вражды двух беспощадных религиозно-политических партий! В самой Фронде, несмотря на ее эпизодический характер, есть так много национального... Но нам пришлось бы перебрать все важнейшие эпохи, из которых слагается история страны, потому что ни одна из них не проходит без того, чтобы не отметить себя более или менее яркой чертой на этом неуловимом образе, который мы называем нравственной физиономией народа. Мы хотели только указать на приложимость задачи к самому делу. Относительно же важности ее полагаем, что она отнюдь не менее достойна занять внимание историка, чем вопрос о породах. Едва ли даже упрекнут нас в преувеличении, если мы назовем задачу первого рода более историческою. По крайней мере здесь историк у себя дома и располагает средствами чисто историческими, не нуждаясь много в постороннем, не всегда ему доступном пособии. Конечно, естественная, или физиологическая, основа не исчезает и в тех периодах, которые вполне принадлежат истории: исследователь постоянно должен иметь ее в виду и соображать с нею новые видоизменения в народном характере, по мере того как они проявляются в историческом действии. Впрочем, это еще не обязывает его ни к каким особенным поискам; он берет природу как уж нечто положительно данное, как необходимую точку отправления для своих исследований, которых главный предмет — вновь образующиеся формы и определения под прямым влиянием совершающихся событий. На этой дороге истории предстоит еще совершить много трудов; но, «каков бы ни был окончательный их вывод (повторим мы вместе с г. Грановским), он принесет несомненную пользу науке, ибо сообщит ей большую положительность и точность» (33).
Нам скажут, что мы слишком ограничиваем деятельность науки, направляя исследования ее преимущественно к одной цели. В намерении нашем, впрочем, и не было утверждать, что для истории в наше время не представляется другой деятельности или что она всякий раз должна сообразоваться с одним требованием: занятия историка по-прежнему остаются многосторонни, и ничто не мешает ему располагать ими по своему выбору и направлять их к той или другой ближайшей цели, смотря по свойству самого вопроса. Из всех наук история наименее способна вынести какое-нибудь принуждение; как нельзя связать ее никакой системой, так нельзя заставить ее служить одной цели. Составляя неистощимый материал для исследования, для мысли, она, впрочем, в целом своем объеме несравненно шире всякого индивидуального воззрения, и нет еще столько обширной философской идеи, которая бы в состоянии была одним разом обнять все разнообразие ее содержания. В речи г. Грановского есть превосходное место, содержащее в себе удивительно верную оценку философских попыток, которые имели своей целью логическое построение истории:
«С конца прошедшего столетия философия истории не переставала предъявлять прав своих на независимое от фактической истории значение. Успех не оправдал этих притязаний. Скажем более: философия истории едва ли может быть предметом особенного, отдельного от всеобщей истории, изложения. Ей принадлежит по праву глава в феноменологии духа, не спускаясь в сферу частных явлении, нисходя до их оценки, она уклоняется от настоящего своего призвания, заключающегося в определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития. Всякое покушение с ее стороны провести резкую черту между событиями логически необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более или менее носить на себе характер произвола, потому что великие события, как бы они ни были далеки от нас, продолжают совершаться в своем дальнейшем развитии, т. е. в своих результатах, и никак не должны быть рассматриваемы как нечто замкнутое и вполне оконченное» (34).
Мысль поразительно верная! Смешно в самом деле слышать, когда хотят отрицать всякое значение подобных попыток; но также ошибочно было бы искать в них настоящих успехов истории и по ним судить о движении ее как науки. История разрабатывается сама из себя, из своего собственного содержания; по тесной связи, существующей между разными отраслями знания, она также пользуется пособием или содействием других наук для более верного разъяснения некоторых сложных вопросов; но самая мысль историческая, или, что то же, понимание смысла исторических событий, прежде всего принадлежит ей самой, потому что может быть только выводом из ближайшего и пристального наблюдения над их постепенным ходом. Есть или, лучше сказать, были замечательные попытки объяснить ход истории философской мыслью; но прошло лишь несколько лет, и настоящие исторические работы далеко оставили их позади себя. Чем больше разрабатываются отдельные части, подробности, самые мелочи, тем больше выясняется общее, угадывается целое... Поставляя на вид в особенности одну задачу, мы хотели только указать на нее как на одну из наиболее современных, которые вытекают из последовательного хода науки, вызваны самыми ее успехами. Тацит (35), представляющий собою высшую степень развития древнего исторического искусства, оставил нам самые полные и отчетливые индивидуальные образы — совершенство, до которого не всегда достигали самые даровитые его предшественники. Это особая сторона исторического искусства довольно уж усвоена историками нашего времени; мы могли бы указать несколько прекрасных образцов в этом роде даже в нашей, все еще молодой литературе. Наше время, благодаря успехам наблюдения и знания вообще, поняло наконец возможность проявления индивидуальности в целых народностях, отдельно взятых, с чертами столько же неизменными и постоянными, как и те, которые составляют основу личного характера. Не дело ли современного искусства — проследить эти индивидуальные черты, принадлежащие целым народностям, в постепенном движении событий их истории и потом собрать их в одном более или менее художественном изображении?
Еще много блестящих успехов ожидает историю впереди, еще ей предстоит великое совершенствование. В виду у всех нас происходят те поистине великолепные открытия, которые произвели совершенный переворот в истории Древнего Египта (36) и расширили египтологию до значения целой обширной науки. Будущее истории исполнено многих прекрасных надежд...
«Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем (говорит г. Грановский в заключительной части своей речи), всеобщая история более, чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей. Она показывает различие, существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени. Только такою мерою должны мы мерить дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть великий примиритель. Эти слова могут быть отнесены к нашей науке... Да будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отделенном от него веками иноплеменнике. Тот не историк, кто не сумел прочесть в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны... Такое воззрение не может служить к ущербу строгой справедливости приговоров, ибо оно требует не оправданий, а объяснений, обращается к самим лицам, а не к подлежащим суждению делам их. Одно из главных препятствий, мешающих благотворному действию истории на общественное мнение, заключается в пренебрежении, какое историки обыкновенно оказывают к большинству читателей. Они, по-видимому, пишут только для ученых, как будто история может допустить такое ограничение, кан будто она по самому существу своему не есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого. К счастью, узкие понятия о мнимом достоинстве пауки, унижающей себя искапием изящной формы и общедоступного изложения, возникшие в удушливой атмосфере немецких ученых кабинетов, несвойственны русскому уму, любящему свет и простор. Цеховая, гордая своею исключительностью наука не в праве рассчитывать на его сочувствие. Здесь, разумеется, речь идет не о тех достойных всякого уважения, но по самому содержанию своему но допускающих занимательности частных исследованиях, без которых не могла бы двигаться вперед наука, хотя она употребляет их в дело только как материал» (37).
Вполне сочувствуем этому живому пониманию лучшей стороны истории, ее благотворного действия на ум и сердце человека. Но не правы ли мы были, когда в начале статьи противоречили г. Грановскому относительно требования изящной формы, по нашему мнению, ровно столько же существующего для нашего времени, как и для древнего мира? Берем в свидетели самого автора речи, называющего «узкими» те понятия о достоинстве науки, по которым она будто бы унижает себя исканием изящной формы и общедоступного изложения. Итак, истинное достоинство науки требует для себя изящества формы — без различия времени и других обстоятельств.